Сборник Научных Трудов Международного Xххv Харакского Форума, 2 – 7 Октября 2018 Г., Г
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Snow Man and Bait by David Albahari
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Masters Theses Graduate School 8-2006 Politics of Representations: Snow Man and Bait by David Albahari Damjana Mraovic University of Tennessee - Knoxville Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes Part of the English Language and Literature Commons Recommended Citation Mraovic, Damjana, "Politics of Representations: Snow Man and Bait by David Albahari. " Master's Thesis, University of Tennessee, 2006. https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/1746 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by Damjana Mraovic entitled "Politics of Representations: Snow Man and Bait by David Albahari." I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, with a major in English. Amy Elias, Major Professor We have read this thesis and recommend its acceptance: Allen Dunn, Lisi M. Schoenbach Accepted for the Council: Carolyn R. Hodges Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by Damjana Mraović entitled “Politics of Representations: Snow Man and Bait by David Albahari.” I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Arts, with a major in English. -

Prosefest-Za-Internet.Pdf
ОСМИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПРОЗЕ ПРОСЕФЕСТ 2014 Нови Сад, 23-25. април 2014. ПРОГРАМ Среда, 23. април КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА Католичка порта 5, сала „Трибина младих“ 18 сати – Свечано отварање фестивала и додела награде „Милован Видаковић“ Поздравна реч: др Андреј Фајгељ, директор и гл. и одг. уредник КЦНС Фестивал отвара: Јовица Аћин, књижевник Музичке минијатуре: Роберт Лакатош, виолина Коктел 19 сати – Сусрет са добитником награде „Милован Видаковић” МИЛИСАВ САВИЋ О аутору говори Ненад Шапоња Четвртак, 24. април 12 сати – Мирослав Демак – Гимназија „Јован Јовановић Змај“ 12.30 сати – Никола Маловић – Гимназија „Исидора Секулић“ 13 сати – Слободан Владушић – Гимназија „Лаза Костић“ 13.30 сати – Инез Баранеј – Гимназија „Исидора Секулић“ THE 8th INTERNATIONAL FESTIVAL OF PROSE WRITING PROSEFEST Novi Sad, 23rd – 25th April 2014 PROGRAMME Wednesday, 23rd April CULTURAL CENTRE OF NOVI SAD Katolička porta 5, “Tribina mladih” Club 6pm – Official Opening of the Festival and presentation of the “Milovan Vidaković” Award Welcome address: PhD Andrej Fajgelj, CCNS General Manager and Chief and Responsible Editor Festival opening by Jovica Aćin, writer Musical miniatures Robert Lakatoš, violin Cocktail 7pm – Meet the winner of the “Milovan Vidaković” Award MILISAV SAVIĆ Speaking about the author: Nenad Šaponja Thursday, 24th April 12pm – Miroslav Demak – High School “Jovan Jovanović Zmaj” 12.30pm – Nikola Malović – High School “Isidora Sekulić” 12.30pm – Slobodan Vladušić – High School “Laza Kostić” 1.30pm – Inez Baranej – High School “Isidora Sekulić” Четвртак, 24. април КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА Католичка порта 5, клуб „Трибина младих“ 17 сати – МИРОСЛАВ ДЕМАК О аутору говори Зденка Валент Белић 18 сати – СУСАН РИНГЕЛ О аутору говори Славица Агатоновић 19.30 сати – СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ О аутору говори Милош Јоцић 20.30 сати – ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ О аутору говори Владимир Гвозден Петак, 25. -

Prenesi Datoteko Prenesi
ISSN 0351-1189 PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST ISSN (tiskana izdaja/printed edition): 0351-1189 TEMATSKI SKLOP / THEMATIC SECTION Comparative literature, Ljubljana ISSN (spletna izdaja/online edition): 2591-1805 Literatura v postsocialističnih kontekstih PKn (Ljubljana) 43.2 (2020) PKn (Ljubljana) PKn (Ljubljana) 43.2 (2020) 43.2 (2020) PKn (Ljubljana) Literature in Postsocialist Contexts Izdaja Slovensko društvo za primerjalno književnost Published by the Slovene Comparative Literature Association Uredil / Edited by: Alen Širca https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/index Glavni in odgovorni urednik Editor: Marijan Dović Marija Mitrović: Predgovor / Introduction Tehnični urednik Technical Editor: Andraž Jež Uredniški odbor Editorial Board: Boris A. Novak: Listanje Sarajevskih zvezkov v spominskem zrcalu Marko Juvan, Alenka Koron, Dejan Kos, Vanesa Matajc, Darja Pavlič, Vid Snoj, Alen Širca, Jola Škulj Vladimir Gvozden: The Serbian Novel After the End of Utopia Marko Avramović: The Memory of the Avant-Garde and the New Wave in Uredniški svet Advisory Board: Ziva Ben-Porat (Tel Aviv), Vladimir Biti (Dunaj/Wien), Lucia Boldrini, Zoran Milutinović, the Contemporary Serbian Novel Katia Pizzi, Galin Tihanov (London), Darko Dolinar, Janko Kos, Aleksander Skaza, Neva Igor Žunkovič: Kognitivistična interpretacija družbene funkcije Šlibar, Tomo Virk (Ljubljana), César Domínguez (Santiago de Compostela), Péter Hajdu empatije v drami Kasandra Borisa A. Novaka (Budimpešta/Budapest), Jón Karl Helgason (Reykjavík), Bart Keunen (Gent), Sowon Park (Santa Barbara), Ivan Verč (Trst/Trieste), Peter V. Zima (Celovec/Klagenfurt) Alen Širca: Neodločljivost v poeziji Tomaža Šalamuna Varja Balžalorsky Antić: Dialoškost v sodobni slovenski poeziji © avtorji © Authors PKn izhaja trikrat na leto. PKn is published three times a year. Prispevke in naročila pošiljajte na naslov Send manuscripts and orders to: RAZPRAVE / ARTICLES Revija Primerjalna književnost, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenia. -

The Housing Policies in Socialist Yugoslavia 287
2 Analize • For our comrade Ivan Radenković Publisher: Center CZKD - Center for Cultural Decontamination Birčaninova 21, Belgrade For the publisher: Borka Pavićević Editors: Vida Knežević, Marko Miletić Technical editor: Anica Stojanović Introduction: Vida Knežević and Marko Miletić Analyses: Domagoj Mihaljević, Artan Sadiku, Mario Reljanović, Borovo Group (Sven Cvek, Snježana Ivčić, Jasna Račić), Lidija K. Radojević and Ana Podvršič, Boris Postnikov, Iskra Krstić, Ivan Radenković and Maja Solar, Ivana Vaseva, Isidora Ilić and Boško Prostran (Doplgenger), Rade Pantić, Ines Tanović and Boriša Mraović (Crvena), Tanja Vukša and Vladimir Simović Research and art works: Borovo Group (Sven Cvek, Snježana Ivčić, Jasna Račić), Mario Reljanović, Srđan Kovačević, The Workers’ Video Club – Zrenjanin, Lidija Radojević and Ana Podvršič, Boris Postnikov, Vigan Nimani, Iskra Krstić, Irena Pejić, Milivoje Krivokapić (Culture Center Punkt), Milica Lupšor, Bojan Mrđenović, Filip Jovanovski, Contemporary Art Center of Montenegro (Nađa Baković), Doplgenger, Crvena, Majlinda Hoxha, Miloš Miletić and Mirjana Radovanović (KURS) Translation and proofreading: Novica Petrović, Andrew Hodges, Jelena Mandić, Elizabeta Bakovska, Iskra Krstić Design and layout: Andreja Mirić This publication is illustrated with details from exhibition visualizations by KURS (Miloš Miletić and Mirjana Radovanović) Printed by: Standard 2, Belgrade Print run: 600 We Have Built Cities for You On the contradictions of Yugoslav socialism Belgrade, 2018 6 Introduction: 11 ..... Vida Knežević and Marko Miletić, We Have Built Cities for You: On the Contradictions of Yugoslav Socialism Analyses: 29 ..... Domagoj Mihaljević, In search for the lost future 47 ..... Artan Sadiku, From the Core to the Periphery: On the Aesthetic Form of Workers 61 ..... Mario Reljanović, The normative position of trade unions and the ideals of selfmanagement 81 .... -

Zbornik Vilenica 2019
34. Mednarodni literarni festival Vilenica / 34rd Vilenica International Literary Festival Vilenica 2019 © Nosilci avtorskih pravic so avtorji sami, če ni navedeno drugače. © The authors are the copyright holders of the text unless otherwise stated. Založilo in izdalo / Issued and published by Društvo slovenskih pisateljev / Slovene Writers’ Association Uredili / Edited by Kristina Sluga in Nana Vogrin Brez predhodnega pisnega dovoljenja Društva slovenskih pisateljev je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem, javnim interaktivnim dostopom ali shranitvijo v elektronski obliki. Zbornik je izšel s finančno podporo Javne agencije za knjigo RS in Evropske komisije. The almanac was published with the financial support of the Slovenian Book Agency and European Commission CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821(4)-82 7.079:82(497.4Vilenica)“2019“(082) MEDNARODNI literarni festival (34 ; 2019 ; Vilenica) Ego in fabula / 34. mednarodni literarni festival = 34th International Literary Festival, Vilenica, 2019 ; [uredili Kristina Sluga in Nana Vogrin]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers‘ Association, 2019 ISBN 978-961-6995-57-3 1. Gl. stv. nasl. 2. Sluga, Kristina COBISS.SI-ID 301480448 Kazalo / Contents Nagrajenec Vilenice 2019 / Vilenica Prize Winner 2019 Dragan Velikić ...............................................5 Slovenski avtor v središču 2019 / Slovenian Author in Focus 2019 Esad Babačić ...............................................57 Literarna branja Vilenice 2019 / Vilenica Literary Readings 2019 Mohamad Abdul Al Munem . .99 Petar Andonovski . .109 Jasmin B . Frelih . .117 Maria Paula Erizanu . .133 Zvonko Karanović . .145 Enes Karić . .165 Nataša Kramberger . .173 Jonas Lüscher . .185 Ace Mermolja . -
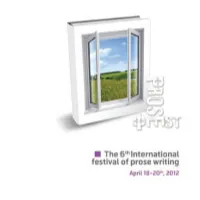
Prose-ENG 2012.Pdf
SVETLANA VELMAR JANKOVIĆ was born, went to school and lives in Bel- grade. As a secretary and editor of the magazine Književnost (Literature), she was a member of the editing board led by Eli Finci and the one led by Zoran Mišić. She spent a number of years editing for the Publishing House Prosveta, working on the editions of contemporary Yugoslav prose and essayistic writ- ing. She founded the library Baština (Legacy). She has published novels: Ožiljak (Scar, 1956, second adapted edition 1999), Lagum (Dungeon, 1999), Bezdno (The Bottomless, 1995), Nigdina (Nowhere, 2000) and Vostanije (The Uprising, 2004); the essays: Savremenici (The Con- temporaries, 1968), Ukletnici (The Cursed, 1993) and Izabranici (The Chosen, 2005); the story collections: Dorćol (1981), Vračar (1994), Glasovi (Voices, 1997), Knjiga za Marka (A Book for Marko, 1998), Očarane naočare (Spell- bound Spectacles, 2006) and Sedam mojih drugara (Seven of My Pals, 1997); the prayer Svetilnik (1998); the dramas Knez Mihailo (Prince Mihailo, 1994) and Žezlo (Scepter, 2001); the novelised biography Prozraci (Rays Through, 2003) and the book Kapija Balkana (The Gates of the Balkans, a quick guide through the history of Belgrade, 2011). Awards: Isidora Sekulić, Ivo Andrić, Meša Selimović, Đorđe Jovano vić, Bora Stanković, Award of the Serbian National Library for the most read book of 1992, the NIN Award in 1995, Neven Award, Politikin zabavnik Award, 6. april for life work on Belgrade, awards Mišićev dukat, Ramonda serbica, Stefan Mitrov Ljubiša and Jack Konfino. Her works have been translated into English, French, German, Russian, Spanish, Italian, Greek, Bulgarian, Korean and Hungarian. Svetlana Velmar Janković is a permanent member of the Serbian Academy of Sciences and Arts. -

Isf # 4 2013-5-10
CONTENTS: CREDITS: 3 | EDITORIAL: Fiction by Ricardo Loureiro Editor In Chief: Roberto Mendes Non fiction by Nassau Hedron Fiction Editor: Ricardo Loureiro FICTION: Non-Fiction Editor: Nas Hedron 5 | THE ASTRONOMER Interviewer: Christian Tamas Zoran Živković Magazine Designer: Ana Ferreira 15 | THE BIRD CATCHER Slush Readers: Ana Cristina Rodrigues | Ana S. P. Somtow Raquel Margato | Diana Pinguicha 33 | ALGORITHMS FOR LOVE The ISF Consultant Panel: Ellen Datlow | Paul Di Ken Liu Filippo NON-FICTION: Website: internationalsf.wordpress.com 43 | THE METAPHYSICAL FANTASIAS OF Cover artist: George Munteanu ZORAN ŽIVKOVIĆ 2 Copy Editing and Proofreading: Indie Book Launch- Michael A. Morrison er: http://www.indiebooklauncher.com/index.php 47 | FANTASTIKA AND THE LITERATURE OF E-publishing services provided by IndieBook- SERBIA: A CONVERSATION WITH ZORAN ŽIV- KOVIĆ Launcher.com Michael A. Morrison Cover Design: Saul Bottcher Copy Editing and Proofreading: Nas Hedron | REVIEWS BY SEAN WRIGHT 59 EPUB/Kindle Preparation: Saul Bottche 60 | REVIEWS BY JORGE CANDEIAS INFORMATION: Copyrights to the pictures, stories, and articles in this e-book are held by their respective authors. This e- 61 | ABOUT GEORGE MUNTEANU book file is provided for your personal use (including one-time printout of the PDF edition). Republishing 65 | ABOU ISF stories, articles, or images online or in print (including making them available for download or feeding them 67 | SUBMISSION GUIDELINES into peer-to-peer networks) without the explicit au- thorization of the copyright holder is against the law. 68 | MEET THE ISF TEAM 72 | ABOUT INDIEBOOKLAUNCHER EDITORIAL: There’s more to this issue, but I’ll leave those introduc- tions to Mr. -

War of Words and Words For
WAR OF WORDS AND WORDS FOR WAR Nationalism and masculinity in the field of Serbian literature in the 1970s and the 1980s By Dejan Ilić Submitted to Central European University Department of Gender Studies In partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Supervisor: Professor Jasmina Lukić Budapest, Hungary 2010 CEU eTD Collection i Abstract This thesis identifies and critically analyzes the prevailing patterns of the cultural self-understanding of the Serbian society, and its members (that is, individuals who identify themselves as Serbs), in the last decades of the twentieth century. It focuses on value systems, symbols, memories, myths, and traditions that have been articulated within the field of Serbian literature, in order to answer the following question: How come that the Serbian political elite responded to the "national question," raised by disintegration of the Yugoslav federal state, in a manner that was thoroughly permeated by utterly ethnicized discourse with a strong notion of self-victimhood? Although it rejects a direct causal link between culture and politics, this thesis demonstrates that both national literature and its history at the same time produce and legitimize certain traditions as a possible subject of attachment and identification. Therefore, within my thesis, a field of literature is treated as an arena in which identity politics compete against each other. This competition is characterized as war of words; accordingly, works of literature and literary criticism are seen as arsenals of images, symbols, and concepts of belonging, which are used in a rivalry for political domination. The thesis approaches the late twentieth-century Serbian literature from the perspective of the collapse of socialist Yugoslavia and armed conflicts that proceeded it, claiming that the grave wrongdoings of the Serbian side in these wars give enough reasons to designate Serbian culture as a culture of accomplices. -

Vilenica Almanac 2012
vilenica 27. Mednarodni AVTORJIlerarni fesval 27th Internaonal NOMADI Lera Fesval NOMADIC WRITERS CROSSROADS KRIŽIŠČA OF EUROPEAN LITERATUREEVROPSKE LITERATURE 2012 27. Mednarodni literarni festival Vilenica / 27th Vilenica International Literary Festival Vilenica 2012 © Nosilci avtorskih pravic so avtorji sami, če ni navedeno drugače. © The authors are the copyright holders of the text unless otherwise stated. Uredila / Edited by Tanja Petrič, Gašper Troha Založilo in izdalo Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana Zanj Veno Taufer, predsednik Issued and published by the Slovene Writers’ Association, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana Veno Taufer, President Jezikovni pregled / Proofreading Jožica Narat, Alan McConnell-Duff Grafično oblikovanje / Design Goran Ivašić Prelom / Layout Klemen Ulčakar Tehnična ureditev in tisk / Technical editing and print Ulčakar&JK Naklada / Print run 700 izvodov / 700 copies Ljubljana, avgust 2012 / August 2012 Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Zbornik je izšel s finančno podpro Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. The almanac was published with financial support of the Slovenian Book Agency. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821(4)-82 7.079:82(497.4Vilenica)”2012” MEDNARODNI literarni festival (27 ; 2012 ; Vilenica) Vilenica / 27. Mednarodni literarni festival = International Literary Festival ; [uredila Tanja Petrič, Gašper Troha]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers’ Association, 2012 ISBN 978-961-6547-65-9 1. -
Serbian Translation Grant 2012
R E P U B L I C O F S E R B I A MINISTRY OF CULTURE, MEDIA AND INFORMATIC SOCIETY Announces PUBLIC INVITATION For participation in The Competition for the Project of Translation of Representative Serbian Literary Works Abroad in 2012. year The purpose of this Competition is to provide financial support for the translation of Serbian literary works and literary works by national minorities from Republic of Serbia, published by domestic professional publishing houses, into foreign languages abroad. PARTICIPATION IN THE COMPETITION Applicants for the financial support for the translation of Serbian literary works and literary works by national minorities from Republik of Serbia, published by domestic publishing houses, into foreign languages abroad may only be professional foreign publishers registered solely or mainly for the publishing activity outside the territory of the Republic of Serbia. Professional publishers , in terms of this Competition, are the publishers registered solely or mainly for the publishing activity in the country they are based in. Book publishing must be their primary activity, not a peripheral or occasional activity. This must be evidenced by a certificate from the relevant register in the country the applicant is based in . Eligible literary categories are poetry, fiction, drama, children's literature (excluding picture- books and textbooks) and literary non-fiction targeted to the general public. Priority will be given to Serbian literary works that have been short-listed or have won the relevant literary awards (for example the NIN Award, the Ivo Andric Award, the Milos Crnjanski Award, The Isidora Sekulic Award, etc.). The competition documentation should be sent to the following address: Ministry of Culture, Media and Informatic Society Department of Artistic Creativity, Cultural Industries and Cultural Relations Vlajkoviceva 3 11000 Belgrade S E R B I A Applications must be sent to the address of the Ministry in sealed envelopes with the form 03 pasted on them. -
Pro-Za Balkan Ikona Publishing International Literature Festival
PRO-ZA BALKAN IKONA PUBLISHING INTERNATIONAL LITERATURE FESTIVAL PRO-ZA BALKAN INTERNATIONAL LITERATURE FESTIVAL f e l l o w s h i p SKOPJE 27.28.29 MAY 2018 ПРОГРАМА Добитник на ПРОЗАРТ AGENDA Winner of PROZART Прв ден 27.05.2018 Наградата “Прозарт” што Интернационалниот литературен фестивал “ПРО-ЗА Балкан“ Свечено отворање - Даут-пашин амам ја доделува на истакнат автор за авторски придонес кон развојот на книжевноста на Балканот, оваа 2018 година со едногласна одлука на Одборот за доделување на 1930 Претставување на писателите и нивните дела наградата, му припадна на големиот српски писател Светислав Басара. 2100 За Светислав Басара, Роберт Перишиќ, Фросина Пармаковска, Лејла Каламујиќ, Ајфер Прозното творештво на Басара е извонредно богато и разновидно: освен неговите култни Тунч и Јуриј Худолин ќе говорат Александар Прокопиев, Ермис Лафазановски и Владимир Јанковски. романи, тој досега напишал високо оценети книги раскази, есеи и колумни. Блескавиот авторски старт на Басара се најави веќе со неговите први прозни дела, „Кинеското Втор ден 28.05.2018 писмо“ и „Peking by Night“, кои веднаш го издвоија како најубедлив претставник на постмодернизмот. 1100 Тркалезна маса „Балканските класици во Европската литература: [не]визибилност во 21 По овие високо оценети дела, Басара речиси без прекин создаваше романи кои беа 1230 век“ - ЕУ инфо центар - од 11.00 до 12.30 часот. откритие и за српската и за балканската книжевност. Да наведеме само неколку, како Ќе учествуваат гостите писатели и членовите на „Скопје fellowship“ програмата. „Фама за велосипедистите“, кој по сите ранг листи на критиката се смета за еден од Трибина најдобрите српски романи на 20 век, па „Дневниците на Марта Коен“, „Подемот и падот на Паркинсоновата болест“, книги омилени меѓу, не само критичарската рецепција, туку Средба на членовите на Скопје фелоушип програмата со писатели и издавачи и кај бројните читатели од Балканот и Европа. -

GOOD LIFE Physical Narratives and Spatial Imaginations / the 53Rd October Salon / Septembar 22 — November 4, 2012 / Curators: Branislav Dimitrijević & Mika Hannula
GOOD LIFE Physical Narratives and Spatial Imaginations / The 53rd October Salon / Septembar 22 — November 4, 2012 / Curators: Branislav Dimitrijević & Mika Hannula 4 PROLOGUE GOOD LIFE PHYSICAL NARRATIVES AND SPATIAL IMAGINATIONS !"#$%&' ($% )(*'"$ — City of Belgrade The 53rd October Salon "+*",&' -(."$ ,"('% — Aleksandar Peković, president The former building of the Geodetic Institute Mia David · Vladimir Perić · Miroslav Perić · Ana Perović Belgrade · Karađorđeva 48 +#'(*"'- September 22 — November 4, 2012 Branislav Dimitrijević · Mika Hannula +#'(*"'-' (--/-*($* Zorana Dojić "'0($/1&' The Cultural Centre of Belgrade %/'&+*"' Mia David +""'%/$(*"' / )'"2&+* 3($(0&' Zorana Djaković )'"%#+&' Jasmina Petković (--/-*($* )'"%#+&' Ana Stojković )' 3($(0&' Ana Djokić 4/-#(. /%&$*/*5 Andrej Dolinka /$-*(..(*/"$ Artinbox (Marco Minniti) · Nikola Cvetković · Bojan Marijanović · Dragan Nikolić · Dejan Pavić *4 +./) Filip Mikić '(%/" +./) Milovan Knežević — Knez )6"*" %"+#3&$*(*/"$ Ana Kostić · Senja Vild (++"#$* 3($(0&' Ninela Gojković )#,./-6&' The Cultural Centre of Belgrade Knez Mihailova 6/I, 11000, Belgrade Serbia www.kcb.org.rs "$ ,&6(.! "! *6& )#,./-6&' Mia David &%/*"'- Branislav Dimitrijević · Mika Hannula · Svebor Midžić 7'/*&'- Vladimir Arsenijević · Branislav Dimitrijević · Mirjana Djudjević Mika Hannula · Annika von Hausswolff · Vlatka Horvat · Jukka Korkeila Svebor Midžić · Aleksandar Zograf · Dubravka Sekulić · Branislava Stefanović Berit Talpsepp · Raša Todosijević · Miloš Tomić · Sreten Ugričić *'($-.(*/"$ Milan Bogdanović · Novica