Філалагічныя Штудыі = Studia Philologica : Зб. Навук. Арт. Вып. 9 / БДУ, Каф
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Elementa Latina–
Jonas DUMČIUS Kazimieras KUZAVINIS Ričardas MIRO NAS Elementa Latina– Ketvirtasis pataisytas ir papildytas leidimas MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS Vilnius 2010 Turinys Įvadas (§§ 1–5) . 15 Lotynų kalba ir jos istorija. Lotynų–lietuvių kalbų žodynai (§ 1) . 15 Lotynų kalbos vieta indoeuropiečių kalbų šeimoje (§ 2) . 19 Lotynų kalba ir Vakarų Europos kalbos (§ 3) . 22 Lotynų kalbos poveikis lietuvių kalbai (§ 4). 24 Latīnum vīvum (§ 5) . 26 I dalis GRAMATIKA FOnetikA IR RAšTAS (§§ 6–18) . 27 Raidynas (§ 6) . 27 Balsiai (§ 7) . 28 Dvibalsiai ir balsiniai dviraidžiai (§ 8) . 29 Priebalsiai (§ 9) . 29 i ir j; u ir ν santykis (§ 10) . 30 Žodžio skirstymas skiemenimis (§ 11) . 31 Skiemens kiekybė (§ 12) . 31 Kirčiavimo taisyklės (§ 13) . 32 Kai kurie lotynų kalbos fonetikos raidos momentai . 33 Kokybinis balsyno kitimas (§ 14) . 33 Kiekybinis balsyno kitimas (§ 15) . 34 Priebalsių asimiliacija (§ 16) . 35 Priebalsių disimiliacija (§ 17) . 35 Rotacizmas (§ 18) . 35 ROMėNų EILėDAROS prinCIPAI (§ 19) . 36 MORFOLOGIJA (§§ 20–122) . 39 DAIKTAVArdis (§§ 21–37) . 39 Skaičiai (§ 22) . 40 Giminės (§ 23) . 40 Linksniuotės (§ 24) . 41 Pirmoji linksniuotė (§ 25) . 41 Antroji linksniuotė (§ 26) . 42 Trečioji linksniuotė (§§ 27–33) . 43 6 ELEMENTA LATINA Priebalsinis linksniavimo tipas (§ 28) . 44 Balsinis linksniavimo tipas (§ 29) . 45 Mišrusis linksniavimo tipas (§ 30) . 46 Trečiosios linksniuotės daiktavardžių linksniavimo ypatybės (§ 31) . 46 Trečiosios linksniuotės vienaskaitos vardininkas (§ 32) . 47 Trečiosios linksniuotės daiktavardžių giminė (§ 33) . 48 Ketvirtoji linksniuotė (§ 34) . 50 Penktoji linksniuotė (§ 35) . 51 Visų linksniuočių linksnių galūnės (§ 36) . 51 Graikiškos linksnių formos lotynų linksniavimo sistemoje (§ 37) . 52 BūdvArdis (§§ 38–46) . 53 Pirmosios–antrosios linksniuotės būdvardžiai (§ 38) . 53 Trečiosios linksniuotės būdvardžiai (§ 39) . 53 Būdvardžių laipsniavimas (§ 40) . 55 Supletyvinių būdvardžių laipsniavimas (§ 41) . 56 Kai kurių būdvardžių laipsniavimo ypatybės (§ 42) . -

Giedrė Mickūnaitė Lithuania: Let’S Celebrate the Anniversary of Greatness
Giedrė Mickūnaitė Lithuania: let’s celebrate the anniversary of greatness [A stampa in Fifteen-Year Anniversary Reports, a cura di M. Sághy, “Annual of Medieval Studies at CEU” (Central European University, Budapest), ed. by J. A. Rasson and B. Zsolt Szakács, vol. 15 (2009), pp. 257-263 © dell’autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]. LITHUANIA: LET’S CELEBRATE THE ANNIVERSARY OF GREATNESS Giedrė Mickūnaitė Such an academic discipline as “medieval studies” does not exist in Lithuania; however, the Middle Ages are present on the academic, cultural, and political scene and lately this presence has increased somewhat. St. Bruno of Querfurt is at fault here. According to the “Annals of Quedlinburg”, the bishop parted with his life in confi nio Rusciae at Lituae in the year 1009. Th e decapitation of St. Bruno not only earned him the martyr’s glory, but also entered Lithuania into the world of the written word; in 2009 the country celebrates a millennium of its name. I do not know whether it was someone from academia who passed the millennium idea to politicians, but academics have received their share of the funding granted by the so-called Millennium Directorate1 for research, conferences, and publications. Th us, regardless of nonexistent “medieval studies”, some of the millenarian research has been concerned with the Middle Ages and most of it is associated with yet another political initiative: the (re?) building of the grand ducal palace in Vilnius. Since the parliament passed the special rebuilding law in 1994, additional energy has been dedicated to archaeological and scholarly eff ort. -

Great Britain Lithuania
Distant friends draw nigh: The Realms of Great Britain AND Lithuania S.C. ROWELL Con ten ts General Introduction | S Royal Connections | 7 Military Contacts: From Foes to Friends, Knights to NATO | 1 5 Trade and Agriculture | 21 Religious Exchange and Asylum | 25 Migration | 3 1 Culture I 33 List of Illustrations | 36 1. Unit rakis Manor Eitute, Trakai, Lithuania. Restoration work sponsored in part by the Sainshurу Foundation Photograph, courtesy: The British hmbassv at Vilnius ELIZABETH II, BY THE GRACE OE Goi) OE THE UNITED KINGDOM OI (I RE AT BRITAIN and N orthern Ireland and oe H er other Realms and T erritories Q u i i n, H ead oe the C ommonwealth, D i lender of ehe: Елеен General Introduction D u rin g one of the hottest summers on record in Europe Lithuanian work men were busy carrying out reconstruction work on the main palace of the Parliament or Seimas ot the Lithuanian Republic, partly in anticipation of a State Visit to be paid to the Republic in October 2006 by Her Britannic Majesty Queen Elizabeth II, accompanied by her husband, His Royal High ness The Duke of Edinburgh. Queen Elizabeth is the first reigning British monarch to visit Lithuania, although several of her own children and ances tors have been to Vilnius in various capacities over the ages. Her Majesty’s visit sets the seal on the restoration of full diplomatic ties between Lithuania and the Court of St James in 1991. Since that date British artists and schol ars, scientists and soldiers, diplomats and tradesmen have been active in re establishing relationships between the British Isles and Lithuania, which thrived for centuries before the tragedies unleashed on Europe in 1939. -

Jono Radvano „Radviliada“ Anuo Metu Ir Dabar
70 TYRINĖJIMAI Jono Radvano „Radviliada“ anuo metu ir dabar Sigitas Narbutas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomas vienas unikumas − mažai žinomo XVI a. lietuvių poeto Jono Radvano lotyniškai parašyta herojinė poema, pavadinta Radivilias, t.y. Ra- dviliada1. Šis − vienintelis Lietuvos bibliotekose išlikęs − poemos egzempliorius nūnai yra puikios būklės. Jis išvalytas ir restauruotas, todėl apie poemos bei kitų kartu išspausdintų kūrinių turinį su- teikia būtiniausią informaciją. Kiti šio konkretaus leidinio duomenys, svarbesni pirmiausia knygos ar apskritai kultūros istorikui, išsaugoti ne visi. Po restauracijos 1984 m. (knygą restauravo A. Juraitė, viršelį − T. Štarytė) šiame egzemplioriuje išliko ne visos proveniencijos, todėl apie jo patekimą į biblio- teką patikimiau galima papasakoti tik nuo antrosios XIX a. pusės. Kalbant apie ankstesnius laikus būtina nurodyti, jog priešlapyje restauratorė paliko dalį senesnio proveniencinio įrašo, liudijančio eg- zempliorių iš pradžių priklausius Kazimierui Leonui Sapiegai (1609−1656), o vėliau greičiausiai atite- kus jėzuitų Vilniaus akademijos bibliotekai. Išlikusi seniausio proveniencinio įrašo dalis byloja: <...> JESV dono Illumi Dñi Casimi: Sapie[hae] // Cancell[arii Magni Ducatus Lithuaniae] − Jėzaus Draugijos <...> dovanų [duota] šviesiausiojo pono Kazimiero Sapiehos, [Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos] kanclerio)2. Taip identifikuoti asmenį leidžia kai kurios kitos Vilniaus bibliotekose saugomos knygos. Mat labai panašių įrašų esama kai kuriuose to paties didiko Vilniaus akademijos bibliotekai 1645 m. dovano- tuose leidiniuose, pavyzdžiui, knygoje: Princeps Christianus adversus Nicolaum Machiavellum, caeterosq[ue] huius temporis politicos, a p. Petro Ribadeneira nuper Hispanice, nunc Latine a p. Ioanne Orano utroque Societatis Iesu theologo, editus..., Moguntiae: sumptibus Conradi Butgenii, 1603 (saugoma Vilniaus universiteto bi- bliotekoje (toliau VUB), III 4800), − randame įrašą: Collegij Vilnen: S.I. -

Bibliographie Zum Nachleben Des Antiken Mythos
Bibliographie zum Nachleben des antiken Mythos von Bernhard Kreuz, Petra Aigner & Christine Harrauer Version vom 26.07.2012 Wien, 2012 Inhaltsverzeichnis I. Allgemeine Hilfsmittel .............................................................................................................. 3 I.1. Hilfsmittel zum 16.–18. Jhd. .............................................................................................. 3 I.1.1. Lexika zur Rennaissance .............................................................................................. 3 I.1.2. Biographische Lexika ................................................................................................... 3 I.1.3. Bibliographische Hilfsmittel ........................................................................................ 4 I.1.4. Neulateinische Literatur im Internet ............................................................................ 4 I.2. Moderne Lexika zur Mythologie (in Auswahl) ................................................................. 4 I.2.1. Grundlegende Lexika zur antiken Mythologie und Bildersprache .............................. 4 I.2.2. Lexika zur antiken Mythologie und ihrem Nachleben ................................................. 5 Spezialwerke zur bildenden Kunst ......................................................................................... 5 Spezialwerke zur Musik ......................................................................................................... 6 I.2.3. Zu mythologischen Nachschlagewerken der -
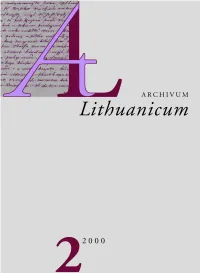
Alt 2 2000.Pdf
I S S N 1 3 9 2 7 3 7 X Archivum Lithuanicum 2 1 2 Archivum Lithuanicum 2 KLAIPËDOS UNIVERSITETAS LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS ÐIAULIØ UNIVERSITETAS VILNIAUS UNIVERSITETAS VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS ARCHIVUM Lithuanicum 2 PETRO OFSETAS VILNIUS 2000 3 Redaktoriø kolegija: HABIL. DR. Giedrius Subaèius (filologija), (vyriausiasis redaktorius), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO DR. Ona Aleknavièienë (filologija), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS HABIL. DR. Saulius Ambrazas (filologija), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS DR. Roma Bonèkutë (filologija), KLAIPËDOS UNIVERSITETAS PROF. DR. Pietro U. Dini (kalbotyra), UNIVERSITÀ DI PISA DR. Jolanta Gelumbeckaitë (filologija), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIAUS UNIVERSITETAS DR. Birutë Kabaðinskaitë (filologija), VILNIAUS UNIVERSITETAS DOC. DR. Rûta Marcinkevièienë (filologija), VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS PROF. HABIL. DR. Jochen D. Range (kalbotyra), ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD DR. Christiane Schiller (kalbotyra), ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD PROF. DR. William R. Schmalstieg (kalbotyra), PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY DOC. DR. Skirmantas Valentas (filologija), ÐIAULIØ UNIVERSITETAS © Lietuviø kalbos institutas 4 Archivum Lithuanicum 2 Archivum Lithuanicum 2 Jau kuris laikas tarp Lietuvos intelektualø pasigirsta ginèø, kaip lotyniðkai turë- tø bûti raðomas Lietuvos vardas: Lithuania ar Lituania. Eugenija Ulèinaitë straips- nyje, skirtame Lietuvos vardo istorijai lotyniðkuose ðaltiniuose, be kita ko, pateikia daug pavyzdþiø, kurie liudija istoriðkai -

Rankraštinių Ir Spausdintinių Ldk Xvi–Xvii A. Knygų Pasaulis
(Online) ISSN 2345-0053. KNYGOTYRA. 2017. 68 DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2017.68.10714 RANKRAŠTINIŲ IR SPAUSDINTINIŲ 7 LDK XVI–XVII A. KNYGŲ PASAULIS: SĄSAJOS IR SANKIRTOS STRAIPSNIAI Rima Cicėnienė | Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva El. paštas: [email protected] Straipsnis skiriamas vienai iš LDK knygos istorijos problemų – rankraš- tinės ir spausdintinės knygos santykiui XVI a. antroje pusėje–XVII am- žiuje. Tyrimo šaltiniu tapo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bi- bliotekos Rankraščių skyriuje saugomi rankraštiniai kodeksai, perrašyti LDK aptariamu laikotarpiu. Straipsnyje stengiamasi atskleisti rankraš- čių ir spausdintinių knygų architektonikos panašumus ir savitumus; išnagrinėti Graikų katalikų bažnyčiai naujai sudaromas rankraštines knygas; atsakyti į klausimą, ar visus XVII a. tekstus, nuorašus, sujung- tus kodekso forma, galime vadinti rankraštine knyga. REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: rankraštinė knyga, spausdintinė knyga, kirilika, LDK, XVI amžius, XVII amžius, unitai. ĮVADAS Tiriant knygos kultūros istoriją svarbu nustatyti ne tik knygos raidos etapus (rankraštinės, spausdintinės, elektroninės), tačiau ir kas šiuos etapus sieja arba skiria1. Jau XVII–XVIII a. sandūroje gyvenę išsilavinę asme- nys suprato rankraščių ir spaudinių saitus, jų svarbą: „И не откуду ж книги друкованные свету явленни, тилько з писанных. И не откуду писанные походят, едно з книг печатных друкованных“2 (Ne iš kur kitur spausdintos 1 EISENSTEIN, Elizabeth L. The Printing revo- elementais. Už galimybę pacituoti šį rankraštį lution in early modern Europe. Cambridge [etc.], noriu padėkoti Rusijos MA Slavistikos instituto 2012. XIX, 384 p. vyriausiajam mokslo darbuotojui, Serbijos mokslų 2 Asketinių tekstų rinkinys, XVII a. pab.–XVIII a., ir menų akademijos užsienio nariui, Šv. Ambrazie- šv. Atono kalno šv. -
Des Großfürstentums Litauen) in Der Mitte Des 16
Zeitschrift für Slawistik 2014; 59(1): 1–20 Žanna Nekraševič-Karotkaja Die Rolle der lateinischsprachigen Poeten des deutschen Kulturraums in der literarischen Entwicklung Weißrusslands und Litauens (des Großfürstentums Litauen) in der Mitte des 16. Jahrhunderts Summary: This article presents some of the main results of a research project funded by the Alexander von Humboldt Foundation, which concentrates mainly on the conceptualization of the term „identity“ in relation to the Grand Duchy of Lithuania. This research project examines only the part of the 16thУ century art (the Golden Age of this country) that was created by poets from theП German cultural area, because especially to this part of Latin poetry least attentionГ has been paid in the research up to now. The separate works by Adam Б Schroether, Heinrich Moller and Johann Mylius are considered in relationЙ to the artistic experience of some authors of the Grand Duchy of Lithuania.И Two relevant aspects of this cultural region are accented here: a specialР understanding of heroism and the heroic ideal, and the vision of the CommonwealthО of Rzecz Pospolita of the two nations. The results of this study of theТ Latin texts strongly support Hans Rothe’s inference that works and authors ofИ the Eastern humanism were based to a great extent on German cultural issues.З Keywords: Grand Duchy of Lithuania,О identity, Latin poetry, carmen heroicum, Renaissance, German culturalП area, Rzecz Pospolita of the two nations Е DOI 10.1515/slaw-2014-0001Р 1 Einleitung Der vorliegende Artikel präsentiert einige der wichtigsten Ergebnisse eines von der Alexander von Humboldt-Stiftung geförderten Forschungsprojekts, welches vor allem die Konzeptualisierung des Begriffes der „Identität“ in Bezug auf das Groß- Dr. -

Laurynas ŠEDVYDIS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Laurynas ŠEDVYDIS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDANČIOJO ELITO RENGIMAS VIEŠAJAM VALSTYBĖS GYVENIMUI XVI A. – XVII A. VIDURYJE Daktaro disertacija Humanitariniai mokslai, istorija (05 H) Kaunas, 2016 Disertacija rengta 2011-2016 m. Vytauto Didžiojo Universitete. Mokslinis vadovas: Prof. dr. Jūratė Kiaupienė (Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo Universitetas, Humanitariniai mokslai, istorija – 05 H) 2 Turinys Turinys .......................................................................................................................................... 3 Įvadas ............................................................................................................................................. 4 Darbo aktualumas ir naujumas. ...................................................................................................... 4 Darbo objektas. .............................................................................................................................. 7 Tiriama grupė. ................................................................................................................................ 7 Darbo tikslas ir uždaviniai. ............................................................................................................ 8 Tyrimo metodai. ............................................................................................................................. 8 Darbo struktūra .............................................................................................................................. -
Alt 3 2001.Pdf
I S S N 1 3 9 2 7 3 7 X I S B N 3447092629 Archivum Lithuanicum 3 1 2 Archivum Lithuanicum 3 KLAIPËDOS UNIVERSITETAS LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS ÐIAULIØ UNIVERSITETAS VILNIAUS UNIVERSITETAS VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS ARCHIVUM Lithuanicum 3 HARRASSOWITZ VERLAG WIESBADEN 2001 3 Redaktoriø kolegija / Editorial Board: HABIL. DR. Giedrius Subaèius (filologija / philology), (vyriausiasis redaktorius / editor), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS, UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO DR. Ona Aleknavièienë (filologija / philology), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS HABIL. DR. Saulius Ambrazas (filologija / philology), LIETUVIØ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS DR. Roma Bonèkutë (filologija / philology), KLAIPËDOS UNIVERSITETAS PROF. DR. Pietro U. Dini (kalbotyra / linguistics), UNIVERSITÀ DI PISA DR. Jolanta Gelumbeckaitë (filologija / philology), BIBLIOTHECA AUGUSTA, WOLFENBÜTTEL DR. Birutë Kabaðinskaitë (filologija / philology), VILNIAUS UNIVERSITETAS DOC. DR. Rûta Marcinkevièienë (filologija / philology), VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS DR. Bronius Maskuliûnas (filologija / philology), ÐIAULIØ UNIVERSITETAS PROF. HABIL. DR. Jochen D. Range (kalbotyra / linguistics), ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD DR. Christiane Schiller (kalbotyra / linguistics), MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG PROF. DR. William R. Schmalstieg (kalbotyra / linguistics), PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY DOC. DR. Janina Ðvambarytë (filologija / philology), ÐIAULIØ UNIVERSITETAS © Lietuviø kalbos institutas 4 Archivum Lithuanicum 3 Archivum Lithuanicum This annual scholarly journal is called Archivum Lithuanicum in commemoration of the very first mention of the name Lithuania in the year 1009. Focus on old Lithuanian texts and on all other texts written in Lithuania has become more intensive in the last decade of the twentieth century. At least several critical editions of old texts are published annually. There are certain vocabularies and word in- dexes of individual authors and of individual texts in preparation. -

Discovering European Values and Heritage Through Literature of Myth
"Through Universal Myths, towards Eternal Truths” 4 Myths 4 Truth DISCOVERING EUROPEAN VALUES AND HERITAGE THROUGH LITERATURE OF MYTH This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. INTRODUCTION The book ―Discovering European Values and Heritage through the Literature of Myth‖ was edited as a final product of the project "Through Universal Myths, towards Eternal Truths‖ (4 Myths 4 Truth) developed within the Lifelong Learning Programme, Comenius Action between September 2013 - August 2015. The partnership involves seven European schools: 1. Colegiul Național ―Nicolae Titulescu‖ - Pucioasa, Romania – coordinator, 2. Etelänummen Koulu - Pietarsaari, Finland, 3. 6th Geniko Lykeio - Lamia, Greece, 4. Szily Kálmán Műszaki Középiskola Szakiskola és Kollégium – Budapest, Hungary, 5. Anykščių Antano Baranausko Pagrindine Mokykla - Anykščiai, Lithuania, 6. Agrupamento de Escolas de Barcelos - EB 2,3 ABEL VARZIM - Barcelos, Portugal, 7. İbrahim Atalı Ticaret Meslek Lisesi - Adana, Turkey. The book contains four chapters: ―The Ethno Genesis Myth‖, ―The Myth of Sacrifice For Creation‖, ―The Myth of Love‖, ―The Most Representative National Myth‖. Each chapter refers to two literary creations - one of them belongs to folk literature and the other one to the cult literature (for each of them - author, short summary, a short fragment in the mother tongue and English), five values promoted by the selected literary creations and four artistic visual creations (a famous one and three created by the students). Each chapter contains seven sections, each section being elaborated by a partner school. -

Mitų Ir Poezijos Žemė Lietuva Lenkų Literatūroje
Algis Kalėda Mitų ir poezijos žemė Lietuva lenkų literatūroje + -f + Monografija Vilnius, 2011 UDK 821.162.1.09 Ka-182 Projektą pagal „Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą“ finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LlT-2-37) Recenzentai prof. dr. Nijolė Kašelionienė prof, habil, dr. Kęstutis Nastopka Redaktorė Danutė Kalinauskaitė Dailininkė Elona Marija Ložytė Maketuotoja Vida Daškuvienė © Algis Kalėda, 2 0 11 © Elona Marija Ložytė, apipavidalinimas, 2011 © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 ISBN 978-609-425-072-9 Turinys Įvadas 7 Kaip nubrėžti temos ribas 7 Lietuvos lenkakalbė literatūra: tapatybės ieškojimas 17 Ant proginės literatūros koturnų (Lietuva senojoje literatūroje) 39 XIX amžius: praeities spinduliuose se Lietuva romantizmo literatūroje ss Istoriškumo pavidalai se Adomo Mickevičiaus Lietuva: Egzotiškumas - universalijos 71 Tautiškumo ir kovojančio patriotizmo trajektorijos 77 Ponas Tadas. XIX amžiaus dabartis ir LDK praeitis. Nostalgijos kraštovaizdis 90 XX amžius: tradicijų slinktys ir lūžiai 112 Lietuvos įvaizdžių kaita tarpukario literatūroje 114 Žagary 124 Karo ir politikos verpetų blaškomi: variantai 132 Józefas Mackiewiczius - antikomunizmo ideologija Vilnijoje 1З8 Sergiuszas Piaseckis - satyrikas, kovotojas įsi Tadeuszas Konvvickis - asmeninės mitologijos 155 Nostalgijos erdvės. Czesławo Miłoszo Lietuva i66 Atgaivinta (?) Mickevičiaus tradicija 171 Laiko upė I8i Slėnio poetika ir realybė 189 Miestas, į kurį ne / sugrįžtama / iš kurio neišvykstama 197 Tėvynės ieškojimas gimtojoje