Вестник Антропологии Herald of Anthropology
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Housing for Integrated Rural Development Improvement Program
i Due Diligence Report on Environment and Social Safeguards Final Report June 2015 UZB: Housing for Integrated Rural Development Investment Program Prepared by: Project Implementation Unit under the Ministry of Economy for the Republic of Uzbekistan and The Asian Development Bank ii ABBREVIATIONS ADB Asian Development Bank DDR Due Diligence Review EIA Environmental Impact Assessment Housing for Integrated Rural Development HIRD Investment Program State committee for land resources, geodesy, SCLRGCSC cartography and state cadastre SCAC State committee of architecture and construction NPC Nature Protection Committee MAWR Ministry of Agriculture and Water Resources QQL Qishloq Qurilish Loyiha QQI Qishloq Qurilish Invest This Due Diligence Report on Environmental and Social Safeguards is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area. iii TABLE OF CONTENTS A. INTRODUCTION ........................................................................................................ 4 B. SUMMARY FINDINGS ............................................................................................... 4 C. SAFEGUARD STANDARDS ...................................................................................... -

Republic of Uzbekistan: Water Supply and Sanitation Services Investment Program
Environmental Assessment Report Updated Initial Environmental Examination for Rehabilitation and Improvements of Karakalpak Water Supply and Distribution System Document Stage: Final Project Number: 42489-UZB August 2016 Republic of Uzbekistan: Water Supply and Sanitation Services Investment Program Prepared by PCU Uzbekistan Communal Services Agency (UCSA) of the Republic of Uzbekistan and EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (EPTISA) (Spain) for the Asian Development Bank (ADB) The initial environmental examination document is that of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB’s Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. CONTENTS Page 1. INTRODUCTION 1 Purpose of the Report and the Project Background 1 Extent of the IEE Study 2 2. DESCRIPTION OF THE PROJECT 3 Project Brief Description 3 Environmental category of the Project 5 Need for Project 6 3. DESCRIPTION OF THE ENVIRONMENT 7 Physical resources 7 Ecological Resources 8 Socio-Economic Environment 9 4. POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS AND THEIR MITIGATIONS 9 Impacts due to Location 9 Potential Environmental Impacts Related to Design 10 Potential Environmental Impacts during Construction 10 Biological Environment 12 Socio-Economic Environment 12 Potential Environmental Impacts during Operation 12 Environmental Management Plan 13 5. INSTITUTIONAL REQUIREMENTS AND ENVIRONMENTAL MONITORING PLAN 14 Institutional Arrangements 14 Grievance Redress Mechanism 15 Environmental Monitoring Plan 15 Reporting of Environmental -

Delivery Destinations
Delivery Destinations 50 - 2,000 kg 2,001 - 3,000 kg 3,001 - 10,000 kg 10,000 - 24,000 kg over 24,000 kg (vol. 1 - 12 m3) (vol. 12 - 16 m3) (vol. 16 - 33 m3) (vol. 33 - 82 m3) (vol. 83 m3 and above) District Province/States Andijan region Andijan district Andijan region Asaka district Andijan region Balikchi district Andijan region Bulokboshi district Andijan region Buz district Andijan region Djalakuduk district Andijan region Izoboksan district Andijan region Korasuv city Andijan region Markhamat district Andijan region Oltinkul district Andijan region Pakhtaobod district Andijan region Khdjaobod district Andijan region Ulugnor district Andijan region Shakhrikhon district Andijan region Kurgontepa district Andijan region Andijan City Andijan region Khanabad City Bukhara region Bukhara district Bukhara region Vobkent district Bukhara region Jandar district Bukhara region Kagan district Bukhara region Olot district Bukhara region Peshkul district Bukhara region Romitan district Bukhara region Shofirkhon district Bukhara region Qoraqul district Bukhara region Gijduvan district Bukhara region Qoravul bazar district Bukhara region Kagan City Bukhara region Bukhara City Jizzakh region Arnasoy district Jizzakh region Bakhmal district Jizzakh region Galloaral district Jizzakh region Sh. Rashidov district Jizzakh region Dostlik district Jizzakh region Zomin district Jizzakh region Mirzachul district Jizzakh region Zafarabad district Jizzakh region Pakhtakor district Jizzakh region Forish district Jizzakh region Yangiabad district Jizzakh region -

World Bank Document
Ministry of Agriculture and Uzbekistan Agroindustry and Food Security Agency (UZAIFSA) Public Disclosure Authorized Uzbekistan Agriculture Modernization Project Public Disclosure Authorized ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Tashkent, Uzbekistan December, 2019 ABBREVIATIONS AND GLOSSARY ARAP Abbreviated Resettlement Action Plan CC Civil Code DCM Decree of the Cabinet of Ministries DDR Diligence Report DMS Detailed Measurement Survey DSEI Draft Statement of the Environmental Impact EHS Environment, Health and Safety General Guidelines EIA Environmental Impact Assessment ES Environmental Specialist ESA Environmental and Social Assessment ESIA Environmental and Social Impact Assessment ESMF Environmental and Social Management Framework ESMP Environmental and Social Management Plan FS Feasibility Study GoU Government of Uzbekistan GRM Grievance Redress Mechanism H&S Health and Safety HH Household ICWC Integrated Commission for Water Coordination IFIs International Financial Institutions IP Indigenous People IR Involuntary Resettlement LAR Land Acquisition and Resettlement LC Land Code MCA Makhalla Citizen’s Assembly MoEI Ministry of Economy and Industry MoH Ministry of Health NGO Non-governmental organization OHS Occupational and Health and Safety ОP Operational Policy PAP Project Affected Persons PCB Polychlorinated Biphenyl PCR Physical Cultural Resources PIU Project Implementation Unit POM Project Operational Manual PPE Personal Protective Equipment QE Qishloq Engineer -

07/20/4889/1515-Сон 12.11.2020 Й. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 Йил 11 Ноябрдаги Пқ–4889‐Сон Қарорига 1‐Илова
ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ:ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 йй.. ҚҲММБ: 07/20/4889/1515-сон 12.11.2020 й. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 ноябрдаги ПҚ–4889‐сон қарорига 1‐илова Қорақалпоғистон Республикаси шаҳар ва туманларининг ўсиш нуқталари (“драйвер” соҳалари) Шаҳар ва туман Бириктирилган вазирлик ва идора Бириктирилган Т/р Ўсиш нуқталари номи раҳбарлари тижорат банклари Қурилиш материаллари Ж.Ортиқхўжаев – Тошкент шаҳар ҳокими, 1. -

Western Uzbekistan Water Supply System Development Project
Initial Environmental Examination Document stage: Final version Project number: September 2017 Republic of Uzbekistan: Western Uzbekistan Water Supply System Development Project Prepared by the Communal Services Agency of the Republic of Uzbekistan “KOMMUNKHIZMAT” for thО Asian DОvОlopmОnt Bank (ADB) This report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB Board of Directors or staff, and may be preliminary in nature. TABLE OF CONTENTS GLOSSARY.............................................................................................................................. 5 EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................... 6 1. INTRODUCTION .............................................................................................................. 13 2. POLICY, LEGAL AND ADMINISTRATIVE FRAMEWORK AND STANDARDS .... 14 2.1. Institutional set up of water supply and environmental sectors ..................... 14 2.1.1. Institutional set up of water supply sector ................................................. 14 2.1.2. Institutional set up of environmental protection ........................................ 17 2.2. Policy and Legal Framework ............................................................................... 18 2.2.1 ADB Safeguards Policy ................................................................................ 18 2.2.2 National Environmental Regulatory Framework ...................................... -

Cost of Doing Business in Uzbekistan
COST OF DOING BUSINESS IN UZBEKISTAN TASHKENT – 2009 Cost of doing business in Uzbekistan The publication was prepared under the guidance of: Dr. Alisher E. Shaykhov, Chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan Work Team: Ulugbek Kamaletdinov Khurshid Imamov Expert Team: Shirin Dosumova Narzullo Oblomurodov Jakhongir Imamnazarov Khusan Shukurov Kamolkhon Inomkhodjaev Saidbek Djurabekov Diyora Kabulova Firdavs Kabilov The publication was supported by UNDP in the framework of projects implementation of “Business Forum of Uzbekistan” and “Support to External Economic Policy”. Distributed free of charge through the Ministry for Foreign Economic Relations, Investments and Trade of the Republic of Uzbekistan, the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan and their structural subdivisions. Electronic version of the publication is available at web sites of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan www.chamber. uz, UNDP Uzbekistan www.undp.uz as well as Business Forum of Uzbekistan www.bfu.uz and Support to External Economic Policy www.investment.uz Projects. © All copyright are protected in accordance with the effective legislation of the Republic of Uzbekistan. These materials are not to be reproduced, distributed or otherwise used without the preliminary written permission of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan. 2 Cost of doing business in Uzbekistan CONTENT Starting a new business .......................................................................................................................................................................5 -
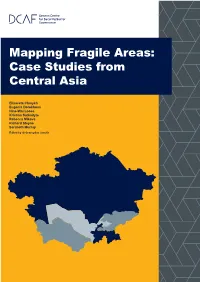
Mapping Fragile Areas: Case Studies from Central Asia
Geneva Centre for Security Sector Governance Mapping Fragile Areas: Case Studies from Central Asia Elizaveta Chmykh Eugenia Dorokhova Hine-Wai Loose Kristina Sutkaityte Rebecca Mikova Richard Steyne Sarabeth Murray Edited by dr Grazvydas Jasutis Mapping Fragile Areas: Case Studies from Central Asia About DCAF DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance is dedicated to improving the se- curity of states and their people within a framework of democratic governance, the rule of law, respect for human rights, and gender equality. Since its founding in 2000, DCAF has contributed to making peace and development more sustainable by assisting partner states, and international actors supporting these states, to improve the governance of their security sector through inclusive and participatory reforms. It creates innovative knowledge products, promotes norms and good practices, provides legal and policy advice and supports capacity-building of both state and non-state security sector stakeholders. DCAF’s Foundation Council is comprised of representatives of about 60 member states and the Canton of Geneva. Active in over 80 countries, DCAF is interna- tionally recognized as one of the world’s leading centres of excellence for security sector governance (SSG) and security sector reform (SSR). DCAF is guided by the principles of neutrality, impartiality, local ownership, inclusive participation, and gender equality. For more information visit www.dcaf.ch and follow us on Twitter @DCAF_Geneva. The views and opinions expressed in this study -
O'zbek Tili Toponimlarining O'quv Izohli Lug'ati (T.Nafasov, V.Nafasova)
OZBEKISTON RESPUBUKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 0*ZBF.K1ST0N RESPUBLIKASI XALQTA’L1MI VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI QASHQADAR YO VILOYAT PEDAGOG XODIMLARNIQAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINl OSHIRISH INSTITUTI To‘ra NAFASOV Vazira NAFASOVA 0 ‘ZBEK TILI TOPONIMLARINING 0 ‘QUV IZOHLI LUG‘ATI (maktah o ‘quvchilari, kollej va litsey talabalari uchun) Toshkeot «Yangi asr avlodi» 2007 www.ziyouz.com kutubxonasi Lug'al o'rta maklab o'qarchUari, kollej ra lit\ey latabalariga mo'ljaltab luzildL Topoaimlar joytarniag linoniy ifodasi, xatq tarixining so'zdagi bayoni bo'tganligi, tarix, geografiya kabi qalor fanlarning asosiy tushunchalari hisoblangantigi bois ona tili va adahiyol, larix, geografiya, ekologiya fantari o'qiluvchilari va shu ixtisoslik yo'nalishlarida ta'lim olayotgan talabalar uchun hig'atdagi til tarixi, tiliar va xalqlat munosabatlarini o'rgankh birlamchi dalil hisoblanadi, shu sahahli lug'atdagi dalillar va izohlar ular uchun ham foydali deb o'ylaymiz. Taqrizchilar: B.Mengliyev, filologiya fanlari doktori. professor O-Jo'raqulov, tarix fanlari doktori, professor AMaraatov, geografiya fanlari nomzodi, dntsent ISBN 978-9943-08-126-0 O T Nafasov, V.Nafasova,“0 ‘zbek tili toponimlarining o‘quv izohli lug'ati” “Yangi asr avlodi", 2007-y. www.ziyouz.com kutubxonasi ALIFBO A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z 0 ‘ G‘ SH CH NG ’ 3 www.ziyouz.com kutubxonasi TOPONIMLAR - XALQ IJODI, TIL MULKI, TARIX KO‘ZGUSI Yunoncha "topos”, “onyma” so zlaridan tarkib topgan toponim atamasi joy nomi degan ma'noni anglatadi. Joy nomi deganda aholi yashash Joylari (respublika, viloyat, shahar. tuman, qishloq, ovul, mavze, daha, mahalla, guzar..), suv havzalari (okean, dengiz, daryo, ko‘l, suvombori, Jilg'a, irmoq, hovuz, band, ariq ), yer yuza shakllari (tog‘, cho‘qqi, qoya, balandiik, tepa, Jar, g‘or, maydon, yaylov, adir...) nomlari tushuniladi. -
Contribution of the Cultural Sector Into the Economic Development of Uzbekistan and Karakalpakstan Analytical Report
Contribution of the cultural sector into the economic development of Uzbekistan and Karakalpakstan Analytical report Report prepared by Yuliy Yusupov, Center for Economic Development Tashkent 2015 1 Contents Introduction 1. International experience in assessing of the contribution of the cultural sector in economic development and its application to the conditions of Uzbekistan 1.1. Delimitation of the UNESCO Culture Sector 1.2. The main methods of assessing the contribution of the cultural sector in the economy 1.3. Principles for assessing the contribution of the cultural sector in the economy of UNESCO 1.4. Influence of cultural values on economic development 1.5. Methodology for assessing the contribution of the cultural sector into economic development of Uzbekistan and Karakalpakstan 2. Evaluation of the contribution of the sectors of culture and tourism in the economic development of Uzbekistan 2.1. Evaluation of the contribution of the cultural sector in the economy of Uzbekistan 2.2. Evaluation of the contribution of the tourism sector in the economy of Uzbekistan 2.3. Evaluation of the contribution of the cultural sector in the economy of the regions of Uzbekistan 3. The Republic of Karakalpakstan: the state sectors of culture and tourism, examples of organizations and projects 3.1. The tourism potential of the Republic of Karakalpakstan 3.2. Examples of activities of individual organizations and projects in the field of culture and tourism in the Republic of Karakalpakstan 4. The impact of cultural values on the economic development of Uzbekistan 4.1. The risks of failure and bad faith of the personnel arrangements 4.2. -

Suyun Qorayev. Toponimika
S. QORAYEV TOPONIMIKA 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Muvoflqlashtiruvchi Kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan 0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent — 2006 www.ziyouz.com kutubxonasi S. Qorayevning «Toponimika» qo‘llanmasi toponimikaning ilmiy-nazariy asoslariga hamda 0 ‘zbekiston toponimiyasiga bag‘ishlangan va shubhasiz, ijtimoiy hamda gumanitar fanlaming eng dolzarb, bir-biriga tutashib ketgan muhim masalalari majmuidan bahs etadi. Soha bo'yicha ko‘p yillik ilmiy-tadqiqot t^jri- basiga ega bo‘!gan muallif toponimikaning asosiy qonuniyatlari va tadqiqot yo'nalishlari kabi muhim muammolariga o‘ta sinchkovlik bilan yondoshgan. Ko‘p qatlamli va nihoyatda boy daliliy materiallar to'plagan va ularni ma’lum bir qolipgasolib umumlashtirgan hamda o'quv qo'llanmasi shakliga keltirgan. Bu asar shubhasiz, 0 ‘rta Osiyo, xususan 0 ‘zbekistonda toponimika fanining rivojiga qo‘shi!gan arzugulik hissadir. Muallif haqida ikki og‘iz so‘z. Suyun Qorayev sinchkov, zaxmatkash va serqirra olim. Muallif yarim asrdan beri toponimika bilan shug‘tiHanib, bir necha lug‘at, monografiya va risola, ikki yuzdan ortiq ilmiy maqolalar chop etgan. Taniqli topaniniist olim T.Nafasov aytganidek, S.Qorayevnmg toponimik lug‘atlari, risolalari, maqolalari xalq mul- kiga aylangan. 0 ‘zbekistonda toponimika fani bo^yicha dastfabki o‘quv qoMlanmasjga respublikaning yetakchi toponimisti S.Qorayevning muallif bo'Irshi qonuniy bir holdir. Maxsus mitharrir, akademik A.R. Muhammadjonov. Qo‘Ffanmada toponimikaning umumiy qonuniyatlari bay on etilgan. Hududiy toponimlar, geografik nomlami hosil qiladigan so‘zIar izohlangan, amaliy topo nimika haqida tushuncha berilgan hamda ayrim yozma yodgorliklar toponimik jihatdan tahlil qilingan. O'qituvchilar, shuningdek, etfmologrya havaskcdari ushbu kitobdan tabay qiziqarli ma’lumotlar topa oladilar, degan umiddamiz. -

MFO's Assessment's Methodology and Results
Establishment of Farmers’ Enterprise Communities Selection methodology and results FE Selection procedure in 1 Karakalpakstan Selection Process of the potential beneficiary communities / business idea • Phase I – Selection of the 50 beneficiary communities from the three districts by the Councilor of Ministries of KK region and Hokimiats of Karauzeak, Kegeyli and Shumanay rayons. • Phase II – Selection of 15 potential beneficiary communities based on a survey and questionnaires among community leaders – in cooperation with the ELS’s component 2 empowering communities) and 1 (regional development strategies) • Phase III – Selection of 3 potential beneficiary communities based on the qualitative research with focus groups. • Phase IV – Business plans preparation and selection of business proposal- investment project. • Phase V – Negotiation of the Memorandum of Agreement with selected partners and establishment of farmers’ enterprise FE Selection procedure in 2 Karakalpakstan Phase I Selection of 50 communities from three districts by the ELS Project’s staff and Councilor of Ministries of KK region and Hokimiats of Karauzeak, Kegeyli and Shumanay rayons. All three components of ELS Project will focus their interventions on those 50 communities. Rayon Karauzyak Kegeyli Shumanay Total # Selected Communities 17 17 16 50 FE Selection procedure in 3 Karakalpakstan Phase II Selection of 15 potential beneficiary communities based on the survey (questionnaires among community leaders) and farmers – in cooperation with the ELS SCORING PROCEDURE Rayon