2Nd International Conference - Openness of State Archives and Memory Studies
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Germany, International Justice and the 20Th Century
Paul Betts Dept .of History University of Sussex NOT TO BE QUOTED WITHOUT PERMISSION OF THE AUTHOR: DRAFT VERSION: THE FINAL DRAFT OF THIS ESSAY WILL APPEAR IN A SPECIAL ISSUE OF HISTORY AND MEMORY IN APRIL, 2005, ED. ALON CONFINO Germany, International Justice and the 20th Century The turning of the millennium has predictably spurred fresh interest in reinterpreting the 20th century as a whole. Recent years have witnessed a bountiful crop of academic surveys, mass market picture books and television programs devoted to recalling the deeds and misdeeds of the last one hundred years. It then comes as no surprise that Germany often figures prominently in these new accounts. If nothing else, its responsibility for World War I, World War II and the Holocaust assures its villainous presence in most every retrospective on offer. That Germany alone experienced all of the modern forms of government in one compressed century – from constitutional monarchy, democratic socialism, fascism, Western liberalism to Soviet-style communism -- has also made it a favorite object lesson about the so-called Age of Extremes. Moreover, the enduring international influence of Weimar culture, feminism and the women’s movement, social democracy, post-1945 economic recovery, West German liberalism, environmental politics and most recently pacifism have also occasioned serious reconsideration of the contemporary relevance of the 20th century German past. Little wonder that several commentators have gone so far as to christen the “short twentieth century” between 1914 and 1989 as really the “German century,” to the extent that German history is commonly held as emblematic of Europe’s 20th century more generally.1 Acknowledging Germany’s central role in 20th century life has hardly made things easy for historians, however. -

“Attempts at Decommunization in Russia Upset De-Stalinization”
“Attempts at Decommunization in Russia Upset de-Stalinization” May 5, 2018 marked the 200th anniversary of Karl Marx’s birth. Whatever the attitude towards this philosopher, nobody denies that his heritage largely shaped the 20th century and that today’s demand for Marxist-related ideas is much above supply. What has happened to left- wing and Communist ideas following the collapse of the Soviet Union and how does decommunization influence societies? Russia in Global Affairs editor Alexander Solovyov discusses these and other related topics with Sergei Solovyov, editor-in-chief of Skepsis magazine. – What made Eastern Europe and some post-Soviet republics launch decommunization? – firstly, it is the ideological embodiment of what in eastern europe is commonly called “regime change.” a key element of a newly- invented myth of the fundamental break with the so-called Communist past, which is a clue to the legitimation of the new elite. This policy, as far as I can judge, is enforced more radically the stronger the real ties are between the elite’s nomenklatura and the previous political regime. a clear example of this is hungary, where the technocratic mid-level career functionaries began to insist (as soon as they laid hands on the previous regime’s property) on the most resolute ideological break with the country’s past. on this soil hungarian nationalism soared and Jobbik—the movement for a Better hungary party—emerged in the limelight … I should say that in hungary today we have what I would Sergei M. Solovyov is an Associate Professor in the Social Psychology Department at the Mos- cow State Institute of Psychology and Pedagogy. -

Decommunization, Memory Laws, and “Builders of Ukraine in the 20Th Century”*
ACTA SLAVICA IAPONICA, TOMUS 39, PP. 1–22 Articles Decommunization, Memory Laws, and “Builders of Ukraine in the 20th Century”* David R. Marples INTRODUCTION This paper provides a critical overview of the Decommunization campaign in Ukraine up to the spring of 2017, which marked two years since the beginning of the program introduced by the four Memory Laws ratified by Ukraine’s president Petro Poroshenko in May 2015. In reality, the process of removing Soviet statues and memorabilia began well before Euromaidan, especially in Western Ukraine where Lenin monuments and others of the Soviet period were swiftly removed from the late 1980s into the early years of independence.1 But I address the formal campaign headed by the Ukrainian Institute of National Remembrance (hereafter referred to as INR), which began in the spring of 2015. I provide an analysis of the program and its results, the results of opinion polls, some critiques and also the reasons why it remains controversial, particularly outside Ukraine. The particular focus is 20th century “builders of Ukrainian independence” as defined by these laws because this question has solicited the most attention, along with the physical changes that have resulted to the map of Ukraine, mon- uments, and memorials. Decommunization has a wider context than the Mem- ory Laws, including a program of administrative decentralization and a new Education Law, introduced in draft form on September 5 and approved by the president on September 25, 2017, which will gradually render the Ukrainian language as the only language of instruction in schools and higher educational institutions.2 Clearly the decentralization program cannot be fulfilled while a conflict situation remains in the eastern parts of Donetsk and Luhansk regions. -

Communism and Post-Communism in Romania : Challenges to Democratic Transition
TITLE : COMMUNISM AND POST-COMMUNISM IN ROMANIA : CHALLENGES TO DEMOCRATIC TRANSITION AUTHOR : VLADIMIR TISMANEANU, University of Marylan d THE NATIONAL COUNCIL FO R EURASIAN AND EAST EUROPEAN RESEARC H TITLE VIII PROGRA M 1755 Massachusetts Avenue, N .W . Washington, D .C . 20036 LEGAL NOTICE The Government of the District of Columbia has certified an amendment of th e Articles of Incorporation of the National Council for Soviet and East European Research changing the name of the Corporation to THE NATIONAL COUNCIL FOR EURASIAN AND EAST EUROPEAN RESEARCH, effective on June 9, 1997. Grants, contracts and all other legal engagements of and with the Corporation made unde r its former name are unaffected and remain in force unless/until modified in writin g by the parties thereto . PROJECT INFORMATION : 1 CONTRACTOR : University of Marylan d PR1NCIPAL 1NVEST1GATOR : Vladimir Tismanean u COUNCIL CONTRACT NUMBER : 81 1-2 3 DATE : March 26, 1998 COPYRIGHT INFORMATIO N Individual researchers retain the copyright on their work products derived from research funded by contract with the National Council for Eurasian and East European Research . However, the Council and the United States Government have the right to duplicate an d disseminate, in written and electronic form, this Report submitted to the Council under thi s Contract, as follows : Such dissemination may be made by the Council solely (a) for its ow n internal use, and (b) to the United States Government (1) for its own internal use ; (2) for further dissemination to domestic, international and foreign governments, entities an d individuals to serve official United States Government purposes ; and (3) for dissemination i n accordance with the Freedom of Information Act or other law or policy of the United State s Government granting the public rights of access to documents held by the United State s Government. -
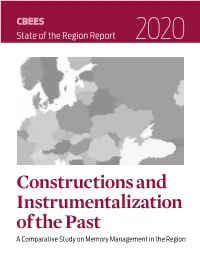
Constructions and Instrumentalization of the Past: a Comparative Study on Memory Management in the Region
CBEES State of the Region Report 2020 Constructions and Instrumentalization of the Past A Comparative Study on Memory Management in the Region Published with support from the Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjstiftelsen) Constructions and Instrumentalization of the Past A Comparative Study on Memory Management in the Region December 2020 Publisher Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, Sdertrn University © CBEES, Sdertrn University and the authors Editor Ninna Mrner Editorial Board Joakim Ekman, Florence Frhlig, David Gaunt, Tora Lane, Per Anders Rudling, Irina Sandomirskaja Layout Lena Fredriksson, Serpentin Media Proofreading Bridget Schaefer, Semantix Print Elanders Sverige AB ISBN 978-91-85139-12-5 4 Contents 7 Preface. A New Annual CBEES Publication, Ulla Manns and Joakim Ekman 9 Introduction. Constructions and Instrumentalization of the Past, David Gaunt and Tora Lane 15 Background. Eastern and Central Europe as a Region of Memory. Some Common Traits, Barbara Trnquist-Plewa ESSAYS 23 Victimhood and Building Identities on Past Suffering, Florence Frhlig 29 Image, Afterimage, Counter-Image: Communist Visuality without Communism, Irina Sandomirskaja 37 The Toxic Memory Politics in the Post-Soviet Caucasus, Thomas de Waal 45 The Flag Revolution. Understanding the Political Symbols of Belarus, Andrej Kotljarchuk 55 Institutes of Trauma Re-production in a Borderland: Poland, Ukraine, and Lithuania, Per Anders Rudling COUNTRY BY COUNTRY 69 Germany. The Multi-Level Governance of Memory as a Policy Field, Jenny Wstenberg 80 Lithuania. Fractured and Contested Memory Regimes, Violeta Davoliūtė 87 Belarus. The Politics of Memory in Belarus: Narratives and Institutions, Aliaksei Lastouski 94 Ukraine. Memory Nodes Loaded with Potential to Mobilize People, Yuliya Yurchuk 106 Czech Republic. -

The Day Holding Hands Changed History Occupation and Annexation of the Baltic States Was Illegal, and Against the Wish of the Respective Nations
The day holding hands changed history occupation and annexation of the Baltic states was illegal, and against the wish of the respective nations. So at 19:00 on 23 August 1989, 50 years after the Molotov-Ribbentrop Pact was signed, church bells sounded in the Bal- tic states. Mourning ribbons decorated the national flags that had been banned a year before. The participants of the Bal- tic Way were addressed by the leaders of the respective national independence movements: the Estonian Rahvarinne, the Lithuanian Sajūdis, and the Popular Front of Latvia. The following words were chanted – ‘laisvė’, ‘svabadus, ‘brīvība’ (freedom). The symbols of Nazi Germany and the Communist regime of the USSR were burnt on large bonfires. The Baltic states demanded the cessation of the half-century long Soviet occupation, col- onisation, russification and communist genocide. The Baltic Way was a significant step to- wards regaining the national independ- ence of Latvia, Lithuania and Estonia, and a source of inspiration for other region- al independence movements. The live chain was also realised in Kishinev by Ro- manians of the Soviet-occupied Bessara- bia or Moldova, while in January 1990, Ukrainians joined hands on the road from Lviv to Kyiv. Just after the Baltic Way campaign, the Berlin Wall fell, the Velvet Revolution in Czechoslovakia began, and the Ceausescu regime in Romania was overthrown. On 23 August 1989, approximately two doomed to be forcedly incorporated into million people stood hand in hand be- the Soviet Union until 1991. The Soviet Un- Recognising the documents of the Baltic tween Tallinn (Estonia), Rīga (Latvia) ion claimed that the Baltic states joined Way as items of documentary heritage of and Vilnius (Lithuania) in one of the voluntarily. -

The Revolutions of 1989 and Their Legacies
1 The Revolutions of 1989 and Their Legacies Vladimir Tismaneanu The revolutions of 1989 were, no matter how one judges their nature, a true world-historical event, in the Hegelian sense: they established a historical cleavage (only to some extent conventional) between the world before and after 89. During that year, what appeared to be an immutable, ostensibly indestructible system collapsed with breath-taking alacrity. And this happened not because of external blows (although external pressure did matter), as in the case of Nazi Germany, but as a consequence of the development of insuperable inner tensions. The Leninist systems were terminally sick, and the disease affected first and foremost their capacity for self-regeneration. After decades of toying with the ideas of intrasystemic reforms (“institutional amphibiousness”, as it were, to use X. L. Ding’s concept, as developed by Archie Brown in his writings on Gorbachev and Gorbachevism), it had become clear that communism did not have the resources for readjustment and that the solution lay not within but outside, and even against, the existing order.1 The importance of these revolutions cannot therefore be overestimated: they represent the triumph of civic dignity and political morality over ideological monism, bureaucratic cynicism and police dictatorship.2 Rooted in an individualistic concept of freedom, programmatically skeptical of all ideological blueprints for social engineering, these revolutions were, at least in their first stage, liberal and non-utopian.3 The fact that 1 See Archie Brown, Seven Years that Changed the World: Perestroika in Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2007), pp. 157-189. In this paper I elaborate upon and revisit the main ideas I put them forward in my introduction to Vladimir Tismaneanu, ed., The Revolutions of 1989 (London and New York: Routledge, 1999) as well as in my book Reinventing Politics: Eastern Europe from Stalin to Havel (New York: Free Press, 1992; revised and expanded paperback, with new afterword, Free Press, 1993). -
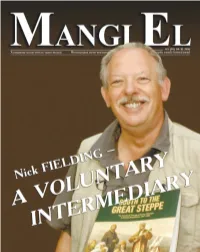
Тарих Толқынында В Потоке Истории in the Stream of History 1 Осы Санда in This Issue
ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА В ПОТОКЕ ИСТОРИИ IN THE STREAM OF HISTORY 1 ОСЫ САНДА IN THIS ISSUE РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН И Ахмет ТОҚТАБАЕВ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: Әбсаттар ДЕРБІСӘЛІ Бағлан МАЙЛЫБАЕВ Бауыржан БАЙТАНАЕВ Бүркітбай АЯҒАН РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Георгий КАН Ғаділбек ШАЛАХМЕТОВ Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ Ерлан СЫДЫҚОВ Жұлдызбек ӘБІЛХОЖИН Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ Иманғали ТАСМАҒАМБЕТОВ Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ Марат ТАЖИН Махмұд ҚАСЫМБЕКОВ Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД Нұрcан ӘЛІМБАЙ Уәлихан ҚАЛИЖАН Хангелді ӘБЖАНОВ Roxana SADVOKASSOVA. Ахмет ТОКТАБАЕВ Абсаттар ДЕРБИСАЛИ Баглан МАЙЛЫБАЕВ Буркитбай АЯГАН Nick FIELDING – Георгий КАН Гадильбек ШАЛАХМЕТОВ Дихан КАМЗАБЕКУЛЫ Ерлан СЫДЫКОВ A VOLUNTARY INTERMEDIARY Жулдызбек АБЫЛХОЖИН Зиябек КАБУЛЬДИНОВ Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ Каржаубай САРТКОЖАУЛЫ Марат ТАЖИН Махмуд КАСЫМБЕКОВ Мухтар КУЛ-МУХАММЕД Нурсан АЛИМБАЙ Уалихан КАЛИЖАН Ханкельды АБЖАНОВ Akhmet TOKTABAYEV Absattar DERBISALI Baglan MAYLYBAYEV Bauirzhan BAYTANAYEV Burkitbay AYAGAN Дастан ЕЛЬДЕСОВ. Gadilbek SHALAKHMETOV Georgy KAN Dikhan KAMZABEKULY Yerlan SYDYKOV МАСТЕР, Zhuldyzbek ABYLKHOZHYN Ziyabek KABUL’DINOV Imangali TASMAGAMBETOV ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ВРЕМЯ Karzhaubay SARTKOZHAULY Marat TAZHIN Mukhtar KUL-MUKHAMMED Makhmud KASSYMBEKOV Nursan ALIMBAY Ualikhan KALIZHAN Khangeldi ABZHANOV Басуға қол қойылды 10.10.2016 Подписано в печать 10.10.2016 Signed to print 10.10.2016 «Mangi El» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы Международный научно-популярный исторический журнал «Mangi Еl» International popular scientific historical -

Genocide and Deportation of Azerbaijanis
GENOCIDE AND DEPORTATION OF AZERBAIJANIS C O N T E N T S General information........................................................................................................................... 3 Resettlement of Armenians to Azerbaijani lands and its grave consequences ................................ 5 Resettlement of Armenians from Iran ........................................................................................ 5 Resettlement of Armenians from Turkey ................................................................................... 8 Massacre and deportation of Azerbaijanis at the beginning of the 20th century .......................... 10 The massacres of 1905-1906. ..................................................................................................... 10 General information ................................................................................................................... 10 Genocide of Moslem Turks through 1905-1906 in Karabagh ...................................................... 13 Genocide of 1918-1920 ............................................................................................................... 15 Genocide over Azerbaijani nation in March of 1918 ................................................................... 15 Massacres in Baku. March 1918................................................................................................. 20 Massacres in Erivan Province (1918-1920) ............................................................................... -

Thomas De Waal the Caucasus
THE CAUCASUS This page intentionally left blank THE CAUCASUS AN INTRODUCTION Thomas de Waal 1 2010 1 Oxford University Press, Inc., publishes works that further Oxford University’s objective of excellence in research, scholarship, and education. Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offi ces in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Copyright © 2010 by Oxford University Press, Inc. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data de Waal, Thomas. The Caucasus : an introduction / Thomas de Waal. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-19-539976-9; 978-0-19-539977-6 (pbk.) 1. Caucasus Region—Politics and government. 2. Caucasus Region—History. 3. Caucasus Region—Relations—Russia. 4. Russia—Relations—Caucasus Region. 5. Caucasus Region—Relations—Soviet Union. 6. Soviet Union—Relations—Caucasus Region. I. Title. DK509.D33 2010 947.5—dc22 2009052376 1 3 5 7 9 8 6 4 2 Printed in the United States of America on acid-free paper To Zoe This page intentionally left blank Contents Introduction 1 1. -

An Investigation Into the Effects of Cultural Policies on National Identity
Cultural Policy in Lithuania since the 1980s: An Investigation into the Effects of Cultural Policies on National Identity MA Thesis in European Studies Graduate School for Humanities Universiteit van Amsterdam Author Laisvė Linkutė Student number 10394192 Main Supervisor Dhr. Dr. G.J.A. Snel Second Supervisor Dhr. Dr. M.E. Spiering August, 2013 1 Laisve Linkute 10394192 In memory of my father Algirdas 2 Laisve Linkute 10394192 Contents: Abstract: ............................................................................................................................................................ 4 Introduction: ...................................................................................................................................................... 5 First chapter: Lithuania in the Soviet Union ...................................................................................................... 9 Second Chapter: Transition to democracy ...................................................................................................... 22 Third Chapter: Lithuania in the EU .................................................................................................................. 33 Conclusions: ..................................................................................................................................................... 47 Bibliography: .................................................................................................................................................... 49 3 -

1: Introduction
Working Papers WP 2013-02 Centre for German and European Studies (CGES) Ksenia Maksimovtsova Contemporary Debates over Language Policy regarding Ethnic Minorities in Latvia and Ukraine: The Discourse of Russian-Language Press. WP 2013-02 2013 № 2 Bielefeld / St. Petersburg Working Papers WP 2013-02 Centre for German and European Studies Bielefeld University St. Petersburg State University Centre for German and European Studies (CGES) CGES Working Papers series includes publication of materials prepared within different activities of the Center for German and European Studies both in St. Petersburg and in Germany: The CGES supports educational programmes, research and scientific dialogues. In accordance with the CGES mission, the Working Papers are dedicated to the interdisciplinary studies of different aspects of German and European societies. The paper is written on the basis of the MA Thesis defended in the MA SES in June 2013 supervised by Dr. Anisya Khokhlova. The author’s internship at the European Centre for Minority Issues in Flensburg, Germany and autumn exchange semester at the University of Bielefeld made an invaluable contribution to the following research project. The publication of the MA thesis in the CGES Working Paper series was recommended by the Examination Committee as one of the best papers out of five MA theses defended by the students of the MA Programme ‘’Studies in European Societies’’ at St. Petersburg State University in June 2013. Ksenia Maksimovtsova graduated from the Faculty of Liberal Arts and Sciences of St. Petersburg State University in 2011 (Major in International Relations, Political Science and Human Rights). Her academic interests include theories of nationalism, language policy, ethnic identity, bilingualism and post-Soviet transformations.