№ 2 (4 0) 2021 № 2 ( 2021 0 ) 4
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bronze Age Settlement Patterns and the Development of Complex Societies in the Southern Ural Steppes (3500-1400 Bc)
BRONZE AGE SETTLEMENT PATTERNS AND THE DEVELOPMENT OF COMPLEX SOCIETIES IN THE SOUTHERN URAL STEPPES (3500-1400 BC) by Denis V. Sharapov, PhD B.S., University of Colorado at Colorado Springs, 2006 M.A., Georgia State University, 2008 M.A., Georgia State University, 2011 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2017 UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Denis V. Sharapov It was defended on April 14, 2017 and approved by Francis Allard, Associate Professor, Department of Anthropology, Indiana University of Pennsylvania Loukas Barton, Assistant Professor, Department of Anthropology, University of Pittsburgh Marc Bermann, Associate Professor, Department of Anthropology, University of Pittsburgh Dissertation Advisor: Robert D. Drennan, Distinguished Professor, Department of Anthropology, University of Pittsburgh ii Copyright © by Denis V. Sharapov 2017 iii BRONZE AGE SETTLEMENT PATTERNS AND THE DEVELOPMENT OF COMPLEX SOCIETIES IN THE SOUTHERN URAL STEPPES (3500-1400 BC) Denis V. Sharapov, PhD University of Pittsburgh, 2017 The ethnohistorical record of the Eurasian steppes points to the long-term predominance of extensive herding economies, associated with low population densities and high levels of geographic mobility. Consequently, investigations of early forms of complex socio-political organization in this region have thus far been primarily focused on Bronze Age (ca. 3500 - 1000 BC) funerary and ceremonial monuments, which presumably served as aggregation points for dispersed populations. When it comes to settlement pattern evidence, researchers claim that traditional models of regional-scale demographic organization, developed in the context of settled societies, cannot be applied to the early complex communities of the steppes. -

Flags of Asia
Flags of Asia Item Type Book Authors McGiverin, Rolland Publisher Indiana State University Download date 27/09/2021 04:44:49 Link to Item http://hdl.handle.net/10484/12198 FLAGS OF ASIA A Bibliography MAY 2, 2017 ROLLAND MCGIVERIN Indiana State University 1 Territory ............................................................... 10 Contents Ethnic ................................................................... 11 Afghanistan ............................................................ 1 Brunei .................................................................. 11 Country .................................................................. 1 Country ................................................................ 11 Ethnic ..................................................................... 2 Cambodia ............................................................. 12 Political .................................................................. 3 Country ................................................................ 12 Armenia .................................................................. 3 Ethnic ................................................................... 13 Country .................................................................. 3 Government ......................................................... 13 Ethnic ..................................................................... 5 China .................................................................... 13 Region .................................................................. -

Conference Program
NAL C O IO N T F A E R Eighteenth International Conference N E R N E C T E “Crimea 2011” N I « » C 1 R 1 I M E A 20 The “Crimea 2011” Conference is held within the framework of IFLA-2011 projects Libraries and Information Resources in the Modern World of Science, Culture, Education, and Business 2011 Topic: Libraries in the Second Decade of the Information Century: Developing Technologies and Enhancing Cooperation Conference Program SUDAK (Main Program) Koktebel and Simferopol (Guest Sessions) Autonomous Republic of Crimea, Ukraine June 4–12, 2011 2 INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE CHAIR Yakov Shrayberg, Director General, Russian National Public Library for Science and Technol- ogy; President, International Association of Users and Developers of Electronic Libraries and New Information Technologies (ELNIT International Association), Moscow, Russia DEPUTY CHAIRS Ekaterina Genieva, Director General, M.I. Rudomino All-Russian State Library for Foreign Literature, Moscow, Russia Tatyana Manilova, Deputy Director, Division of Cultural Heritage and Fine Arts; Head, Library and Archive Department, Ministry of Culture of the Russian Federation, Moscow, Russia Maurice Freedman, Publisher, Consultant, ex-President, American Library Association (2002- 2003); Acting Director, Purchase Public Library, Mount Kisco, NY, USA Larisa Nikiforenko, Deputy Director, Division of Art and Regional Policy; Head, Department of Library Activity Analysis and Forecast, Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, Kiev, Ukraine MEMBERS Ramazan Abdulatipov, Chairman, -

Life Histories of Etnos Theory in Russia and Beyond
A Life Histories of Etnos Theory NDERSON in Russia and Beyond , A , Edited by David G. Anderson, Dmitry V. Arzyutov RZYUTOV and Sergei S. Alymov The idea of etnos came into being over a hundred years ago as a way of understanding the collecti ve identi ti es of people with a common language and shared traditi ons. In AND the twenti eth century, the concept came to be associated with Soviet state-building, and it fell sharply out of favour. Yet outside the academy, etnos-style arguments not A only persist, but are a vibrant part of regional anthropological traditi ons. LYMOV Life Histories of Etnos Theory in Russia and Beyond makes a powerful argument for etnos reconsidering the importance of in our understanding of ethnicity and nati onal ( identi ty across Eurasia. The collecti on brings to life a rich archive of previously EDS unpublished lett ers, fi eldnotes, and photographic collecti ons of the theory’s early proponents. Using contemporary fi eldwork and case studies, the volume shows .) Life Histories of Etnos Theory how the ideas of these ethnographers conti nue to impact and shape identi ti es in various regional theatres from Ukraine to the Russian North to the Manchurian Life Histories of steppes of what is now China. Through writi ng a life history of these collecti vist in Russia and Beyond concepts, the contributors to this volume unveil a world where the assumpti ons of liberal individualism do not hold. In doing so, they demonstrate how noti ons of belonging are not fl eeti ng but persistent, multi -generati onal, and bio-social. -

Music Performance and Education
SCIENTIFIC JOURNAL OF MUSIC ART AND EDUCATION WORLD BULLETIN “MUSICAL ARTS AND EDUCATION OF THE UNESCO CHAIR IN LIFE-LONG LEARNING” The journal was founded in 2013 comes out 4 times a year Moscow State Pedagogical University was founded 140 years ago Founder: Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education “Moscow State Pedagogical University” Publisher: “MSPU” Publishing House The co-publisher of the issue: FSBEIHPE “Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev” (branch of the UNESCO Chair “Musical Arts and Education in Life-long Learning” hosted by MordSPU) EDITORIAL BOARD A. L. Semenov (chairman of the board) Academician of Russian Academy of Sciences, Academician of Russian Academy of Education, Professor E. B. Abdullin (vice-chairman of the board) Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Member of the Union of Composers of Russia V. A. Gergiev People's Artist of Russia V. A. Gurevich Professor, Doctor of Arts, Secretary of the Union of Composers of Saint-Petersburg V. V. Kadakin Candidate of Pedagogical Sciences, Honored Worker of Education of the Republic of Mordovia B. M. Nemensky Professor, Academician of the Russian Academy of Education, People's Artist of Russia M. I. Roytershteyn Professor, Composer, Honoured Art Worker of Russia, Candidate of Arts A. S. Sokolov Professor, Doctor of Arts, Member of the Union of Composers of Russia G. M. Tsypin Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Arts, Member of the Union of Composers of Russia R. K. Shedrin Composer, People's Artist of the USSR S. B. Yakovenko Professor, Doctor of Arts, People's Artist of Russia EDITORIAL BOARD Nikolaeva E. -

Dipartimento Di Scienze Politiche Cattedra Di Storia Delle Relazioni Internazionali
Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra di Storia delle Relazioni Internazionali RUSSIAN FOREIGN POLICY AND EUROPEAN SECURITY FROM GORBACHEV TO PUTIN (1985-2001) RELATORE Prof. NIGLIA CANDIDATO Francesco Tamburini 622402 CORRELATORE Prof. PONS ANNO ACCADEMICO 2014/2015 Contents Acknowledgements………………………………………………………………………………..p.4 Introduction…………………………………………………………………………………….....p.5 Note on the Transliteration of Russian…………………………………………………………...p.8 List of Abbreviations………………………………………………………………………………p.9 1st Chapter A new thinking for the Soviet Union and the world 1.1) Domestic and international drivers.......................................................................................p.11 1.2) Contents and origins of new thinking...................................................................................p.14 1.3) Robbing the imperialists of the enemy image……………..................................................p.19 1.4) Domestic crises and new political actors………………………………………………….p.22 1.5) Gorbachev and European security: the challenge of NATO…………….………………....p.26 1.6) Achievements, failures and legacy…………….………………………………………......p.33 2nd Chapter A transformed Russia in a new world 2.1) An inevitable turn West?......................................................................................................p.36 2.2) Liberal internationalism: coalition and vision......................................................................p.38 2.3) Foreign policymaking in the Russian Federation………………………………………….p.42 2.4) Honeymoon with -

ULYANOVSK OBLAST: Tatiana Ivshina
STEERING COMMITTEE FOR CULTURE, HERITAGE AND LANDSCAPE (CDCPP) CDCPP (2013) 24 Strasbourg, 22 May 2013 2nd meeting Strasbourg, 27-29 May 2013 PRESENTATION OF THE CULTURAL POLICY REVIEW OF THE RUSSIAN FEDERATION DOCUMENT FOR INFORMATION AND DECISION Item 3.2 of the draft agenda Draft decision The Committee: – welcomed the conclusion of the Cultural Policy Review of the Russian Federation and congratulated the Russian Authorities and the joint team of Russian and independent experts on the achievement; – expressed its interest in learning about the follow-up given to the report at national level and invited the Russian Authorities to report back in this respect at the CDCPP’s 2015 Plenary Session. Directorate of Democratic Governance, DG II 2 3 MINISTRY OF CULTURE RUSSIAN INSTITUTE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR CULTURAL RESEARCH CULTURAL POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION REVIEW 2013 4 The opinions expressed in this work are the responsibility of the editors of the report and do not necessarily reflect the official policy of the Council of Europe. 5 EXPERT PANEL: MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION: Kirill Razlogov Nina Kochelyaeva Tatiana Fedorova MINISTRY OF CULTURE, PRINT, AND NATIONAL AFFAIRS OF THE MARI EL REPUBLIC: Galina Skalina MINISTRY OF CULTURE OF OMSK OBLAST: Tatiana Smirnova GOVERNMENT OF ULYANOVSK OBLAST: Tatiana Ivshina COUNCIL OF EUROPE: Terry Sandell Philippe Kern COUNCIL OF EUROPE COORDINATOR Kathrin Merkle EDITORS AND CONTRIBUTORS Editors: Kirill Razlogov (Russian Federation) Terry Sandell (United Kingdom) Contributors: Tatiana Fedorova (Russian Federation) Tatiana Ivshina (Russian Federation) Philippe Kern (Belgium) Nina Kochelyaeva (Russian Federation) Kirill Razlogov (Russian Federation) Terry Sandell (United Kingdom) Tatiana Smirnova (Russian Federation) 6 CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY 8 ACKNOWLEDGMENTS 10 CULTURE POTENTIAL INTRODUCTION 14 CHAPTER 1. -
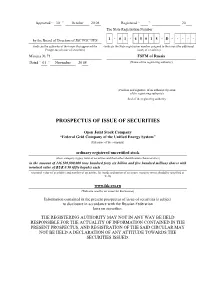
Prospectus of Issue of Securities) Issue) of Securities) Minutes № 71 FSFM of Russia Dated “ 01 ” November 20 08 (Name of the Registering Authority)
Approved “ 30 ” October 20 08 Registered “ ” 20 The State Registration Number 1 - 0 1 - 6 5 0 1 8 - D - - - - - by the Board of Directors of JSC FGC UES (indicate the authority of the issuer that approved the (indicate the State registration number assigned to the issue (the additional Prospectus of issue of securities) issue) of securities) Minutes № 71 FSFM of Russia Dated “ 01 ” November 20 08 (Name of the registering authority) (Position and signature of an authorized person of the registering authority) Seal of the registering authority PROSPECTUS OF ISSUE OF SECURITIES Open Joint Stock Company “Federal Grid Company of the Unified Energy System” (full name of the company) ordinary registered uncertified stock (class, category (type), form of securities and their other identification characteristics) in the amount of 146,500,000,000 (one hundred forty six billion and five hundred million) shares with nominal value of RUR 0.50 (fifty kopeks) each (nominal value (if available) and number of securities, for bonds and option of an issuer, maturity terms should be specified as well) www.fsk-ees.ru (Web-site used by an issuer for disclosures) Information contained in the present prospectus of issue of securities is subject to disclosure in accordance with the Russian Federation laws on securities. THE REGISTERING AUTHORITY MAY NOT IN ANY WAY BE HELD RESPONSIBLE FOR THE ACTUALITY OF INFORMATION CONTAINED IN THE PRESENT PROSPECTUS, AND REGISTRATION OF THE SAID CIRCULAR MAY NOT BE HELD A DECLARATION OF ANY ATTITUDE TOWARDS THE SECURITIES ISSUED. This is to confirm the credibility of 2005, 2006 and 2007 financial (accounting) statements of the issuer and compliance of the issuer’s procedure of accounting with the legislation of the Russian Federation. -

Russia Background
The World Factbook Central Asia :: Russia Introduction :: Russia Background: Founded in the 12th century, the Principality of Muscovy, was able to emerge from over 200 years of Mongol domination (13th-15th centuries) and to gradually conquer and absorb surrounding principalities. In the early 17th century, a new Romanov Dynasty continued this policy of expansion across Siberia to the Pacific. Under PETER I (ruled 1682-1725), hegemony was extended to the Baltic Sea and the country was renamed the Russian Empire. During the 19th century, more territorial acquisitions were made in Europe and Asia. Defeat in the Russo-Japanese War of 1904-05 contributed to the Revolution of 1905, which resulted in the formation of a parliament and other reforms. Repeated devastating defeats of the Russian army in World War I led to widespread rioting in the major cities of the Russian Empire and to the overthrow in 1917 of the imperial household. The communists under Vladimir LENIN seized power soon after and formed the USSR. The brutal rule of Iosif STALIN (1928-53) strengthened communist rule and Russian dominance of the Soviet Union at a cost of tens of millions of lives. The Soviet economy and society stagnated in the following decades until General Secretary Mikhail GORBACHEV (1985-91) introduced glasnost (openness) and perestroika (restructuring) in an attempt to modernize communism, but his initiatives inadvertently released forces that by December 1991 splintered the USSR into Russia and 14 other independent republics. Since then, Russia has shifted its post-Soviet democratic ambitions in favor of a centralized semi-authoritarian state in which the leadership seeks to legitimize its rule through managed national elections, populist appeals by President PUTIN, and continued economic growth. -

Ship-Breaking.Com Information Bulletins on Ship Demolition, # 19 - 22 from January 1St to December 31St, 2010
Ship-breaking.com Information bulletins on ship demolition, # 19 - 22 from January 1st to December 31st, 2010 Robin des Bois 2011 Ship-breaking.com Bulletins of information and analysis on ship demolition 2010 Content # 19, from January 1st to April 4th …..……………………….………………….…. 3 (The crisis is over, the twilight of tankers, Onyx the worst, Tor Anglia the best, a failure in the United States) # 20, from April 4th to July 1st ….…..……………………..……………….……..… 34 (Ship-breaking in Mauritania, Ship-breaking across the Globe, The car ferry scandal) # 21, from July 2nd to October 15th …..………………….…..…………….……… 78 (Bangladesh, United States, Africa, India and Turkey in the Spotlight Sagafjord / Saga Rose - The END) # 22, from October 16th to 31 Decembre 31st ……………..…………….……… 121 (The agony of the Azzurra, Piracy and demolition, Mauritania - follow up, France, Global statement 2010, Thorgaut / Guard Valiant - The END) Information and analysis bulletin April 21, 2010 on ship demolition # 19 January 1st to April 4th 2010 Ship-breaking.com Between January 1st and April 4th 2010, 233 ships were sent to be demolished. The rhythm remains elevated, with 18 ships per week. In number of ships to be demolished as well as tonnage, India, with 120 ships (42%), remains destination number 1 before Bangladesh with 55 (24%), Pakistan with 25 (11%), and China with 23 (9%). The accumulated demolition will permit the recycling of nearly 2 million tons of metal. The crisis is over ! The prices offered by the demolition yards have significantly increased and continue to increase in the yards of the Indian subcontinent, but also in China; they have reached $400, even $500 for oil tankers and more for ships containing stainless steel. -

ALTAI SPECIAL on the Trail of Silk Route: Pilgrimage to Sumeru, Altai K
ISSN 0971-9318 HIMALAYAN AND CENTRAL ASIAN STUDIES (JOURNAL OF HIMALAYAN RESEARCH AND CULTURAL FOUNDATION) NGO in Special Consultative Status with ECOSOC, United Nations Vol. 18 Nos. 3-4 July-December 2014 ALTAI SPECIAL On the Trail of Silk Route: Pilgrimage to Sumeru, Altai K. Warikoo Eurasian Philosophy of Culture: The Principles of Formation M. Yu. Shishin Altai as a Centre of Eurasian Cooperation A.V. Ivanov, I.V. Fotieva and A.V. Kremneva Altai – A Source of Spiritual Ecology as a Norm of Eurasian Civilization D.I.Mamyev Modeling the Concept “Altai” O.A. Staroseletz and N.N. Simonova The Phenomenon Altai in the System of World Culture E.I. Balakina and E.E. Balakina Altai as One of the Poles of Energy of the Geo-Cultural Phenomenon “Altai-Himalayas” I.A. Zhernosenko Altaian and Central Asian Beliefs about Sumeru Alfred Poznyakov Cross Border Tourism in Altai Mountain Region A.N. Dunets HIMALAYAN AND CENTRAL ASIAN STUDIES Editor : K. WARIKOO Guest Associate Editor : I.A. ZHERNOSENKO © Himalayan Research and Cultural Foundation, New Delhi. * All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electrical, mechanical or otherwise without first seeking the written permission of the publisher or due acknowledgement. * The views expressed in this Journal are those of the authors and do not necessarily represent the opinions or policies of the Himalayan Research and Cultural Foundation. SUBSCRIPTION IN INDIA Single Copy (Individual) : Rs. 500.00 Annual (Individual) -

Shipbreaking" # 54
Shipbreaking Bulletin of information and analysis on shipbreaking # 54 Overview: from October 1 to December 31, 2018 + Overview 2018 March 1, 2019 Stellar Fair, beached at Chittagong, p 40. © Shipbreaking / Facebook group Robin des Bois - 1 - Shipbreaking # 54 – March 2019 4th quarter overview Content Content 2 Oil tanker 23 Bulk carrier 39 4th quarter overview 2 American Eagle Tankers 24 Stellar Fair, Polaris Shipping 40 Greece, clening up in Eleusis 3 Nordic American Tankers 28 Miscellanous: cement carrier, heavy 41 Car carrier, the International Car Show 4 Chemical tanker 32 load carrier, dredger Car ferries, asbestos palaces 5 Gas carrier 33 pusher-tug, other 43 General cargo ship 8 Combination carrier (OBO) 33 2018 overview 44 Container ship, the Kings of Box 13 Drilling ship 34 A gloomy year for safety 44 in Chaos Transocean Tons, cash, deflagging 45 CSL Virginia 15 Offshore service vessel 35 China, Turkey, Europe 45 Reefer 20 Safety standby vessel 38 France: Rio Tagus, one step forward 48 Factory-ship 21 Pipe-layer vessel 38 Ro Ro 22 Research vessel 38 Sources 49 October-November-December 2018 182 ships, +43%. 1,7 million tons, +51% compared to the 3rd quarter. Decrease compared to the first two quarters. The end- of-year big rush did not happen, it was done in small steps. Bangladesh crushes the market with 48% of the tonnage to be scrapped far ahead of India (28%), then Pakistan (5%). 158 ships scrapped in Asia, 95% of the global tonnage. Of these, 60 were built in the European Union and Norway and 61 belonged to shipowners from the European Union or the European Economic Area.