2 2013 CS4 Resize 2.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Engineering Management Field Project
Engineering Management Field Project The Interactive Knowledge Library: Capturing, Sharing and Synthesizing Tacit Knowledge in Engineering By Craig M. Eaton Fall Semester, 2006 An EMGT Field Project report submitted to the Engineering Management Program and the Faculty of the Graduate School of The University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master’s of Science ____________________________ Charles Keller Committee Chairperson ____________________________ Craig Connell Committee Member ____________________________ Tim Wilcoxon Committee Member Date accepted:____________________________ Acknowledgements I wish to thank Ron Wood for the initial idea of looking into capturing knowledge for my project. Thanks to my sister Janette Savage for providing some useful references. Also thanks to Rich Perkins, Jan Sindt and Nitin Sanghi for the discussions on Knowledge Management. Most of all thanks to my committee, Chick Keller, Craig Connell and Tim Wilcoxon and particularly to Chick for introducing Wikis to me in a previous class. Last but not least thanks to my wife Lisa for the moral support and making me cups of rooibos tea while I worked on this. i Executive Summary The Interactive Knowledge Library is a place to capture, share and synthesize tacit and explicit knowledge. While explicit knowledge (or ‘know what’) is useful, it is tacit knowledge (or ‘know how’) that is the quintessence of knowledge, from which there is the most to be gained by sharing. The Interactive Knowledge Library provides a medium through which knowledge is expressed by enabling data and information to be set into context. A Wiki environment (e.g. www.wikipedia.org) is the best information technology solution currently available in order to enable the Interactive Knowledge Library concept. -

Genre Analysis of Online Encyclopedias. the Case of Wikipedia
Genre analysis online encycloped The case of Wikipedia AnnaTereszkiewicz Genre analysis of online encyclopedias The case of Wikipedia Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja dofi nansowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków wydziałowej rezerwy badań własnych oraz Instytutu Filologii Angielskiej PROJEKT OKŁADKI Bartłomiej Drosdziok Zdjęcie na okładce: Łukasz Stawarski © Copyright by Anna Tereszkiewicz & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2010 All rights reserved Książka, ani żaden jej fragment nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawcy. W sprawie zezwoleń na przedruk należy zwracać się do Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 978-83-233-2813-1 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-631-18-81, 12-631-18-82, fax 12-631-18-83 Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 tel. kom. 0506-006-674, e-mail: [email protected] Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325 Table of Contents Acknowledgements ........................................................................................................................ 9 Introduction .................................................................................................................................... 11 Materials and Methods .................................................................................................................. 14 1. Genology as a study .................................................................................................................. -

Portrait of the Intellectual As a DJ Wikipedia and the Question of Scientific Expertise
Portrait of the intellectual as a DJ Wikipedia and the question of scientific expertise Philippe LACOUR Wikipedia is on its way to becoming something of an institution in today’s intellectual landscape. What role, one might ask, is scientific expertise going to play here? According to Philippe Lacour, this problem is not so much going to find a solution inside the encyclopaedia’s framework, as it is going to be resolved in an external operationalisation process, following the twofold principle of clinical as well as critical differentiation. Wikipedia’s development is based on the dissembling and reassembling of knowledge and digital data, foreshadowing, undoubtedly, what will be a new form of intellectual life. Wikipedia and Citizendium Wikipedia is notorious for its editorial ambiguity. Not only is the positivist norm, which includes neutral presentation of facts, accountability and consensual writing, not always complied with (forgery, disputes, etc.), but, more importantly, its leverage inside this project is structurally challenged by other philosophical approaches (liberalism, communitarism, relativism)1. The debate surrounding the online encyclopaedia Citizendium might not have received sufficient attention in this regard. In the light of Wikipedia’s success, Larry Sanger’s rivalling project might, at first glance, appear somewhat childish and vain. Yet, personal quarrels aside (Larry 1 See especially Marc Foglia et al., Wikipédia. Média de la connaissance démocratique? Quand le citoyen lambda devient encyclopédiste (Wikipedia. Medium of democratic knowledge? Citizen lambda turns into encyclopaedist), ed. FYP, Limoges, March 2008, §3: “Le mix philosophique de Wikipédia” (The philosophical mixture inside Wikipedia), and §12.8: “La construction du consensus?” (Constructing a consensus?). -
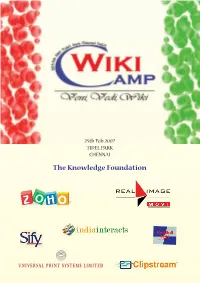
The Knowledge Foundation
WIKIPEDIA 25th Feb 2007 TIDEL PARK CHENNAI The Knowledge Foundation Want to Change the World? AUTOGRAPH AUTOGRAPH Wiki Basics What is wiki? In simple terms, a Wiki is an openly editable set of pages that allows any user to edit content through a simple browser. A Wiki is a piece of server software that allows users to freely create and edit Web page content using any Web browser. Wiki supports hyperlinks and has a simple text syntax for creating new pages and crosslinks between internal pages on the fly. In a layman’s words : Imagine a public park with a wall set aside for mural artists. Anyone could show up at any time and Start painting, adding to existing images, filling blank space, or whitewashing as much as they like.A wiki is an analogous public space, but it’s on the web. Technical meaning : A wiki is a website that allows the visitors themselves to easily add, remove, and otherwise edit and change available content. It is a set of web pages editable by anyone. No special knowledge of HTML is needed. Nor is it necessary to access a web server to upload pages. Every page in a wiki can be amended, edited, or even deleted by anyone with a web browser. The term wiki also can refer to the collaborative software itself (wiki engine) that facilitates the operation of such a Web site, or to certain specific wiki sites, including the computer science site (the original wiki) WikiWikiWeb and on-line encyclopedias such as Wikipedia. A wiki enables documents to be written very collaboratively in a simple markup language using a web browser. -
![Revisiting 'The Rise and Decline' in a Population of Peer Production Projects [769 Wikis]](https://docslib.b-cdn.net/cover/5625/revisiting-the-rise-and-decline-in-a-population-of-peer-production-projects-769-wikis-2895625.webp)
Revisiting 'The Rise and Decline' in a Population of Peer Production Projects [769 Wikis]
CHI 2018 Paper CHI 2018, April 21–26, 2018, Montréal, QC, Canada Revisiting “The Rise and Decline” in a Population of Peer Production Projects Nathan TeBlunthuis Aaron Shaw Benjamin Mako Hill University of Washington Northwestern University University of Washington Seattle, Washington, USA Evanston, IL, USA Seattle, Washington, USA [email protected] [email protected] [email protected] ABSTRACT Do patterns of growth and stabilization found in large peer 2.0 ● ●● ● ● production systems such as Wikipedia occur in other commu- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● nities? This study assesses the generalizability of Halfaker et ● ● ●●●● ● ● ●● ● ● al.’s influential 2013 paper on “The Rise and Decline of an ● ●● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ●● ●● ● Open Collaboration System.” We replicate its tests of several ● ● ● 1.5 ● ● theories related to newcomer retention and norm entrenchment ● ● using a dataset of hundreds of active peer production wikis ●● ● ● from Wikia. We reproduce the subset of the findings from ● ● ● ●● Halfaker and colleagues that we are able to test, comparing ●●● both the estimated signs and magnitudes of our models. Our units) editors (Std dev Active 1.0 results support the external validity of Halfaker et al.’s claims Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 that quality control systems may limit the growth of peer pro- Wiki age duction communities by deterring new contributors and that norms tend to become entrenched over time. Figure 1. Mean of the number of editors with at least 5 edits per month in standard deviation units for wikis in our sample. The dashed lines represent the results of a LOESS regression. The error bars represent ACM Classification Keywords bootstrap 95% confidence intervals. -

Blackwikis Final Version at 130507
Legal Issues for Wikis: The Challenge of User-generated and Peer-produced Knowledge, Content 1 and Culture Peter Black,2 Hayden Delaney3 and Brian Fitzgerald4 1. Introduction We live in a world increasingly dominated by user-generated and peer- produced knowledge, content and culture.5 This is particularly evident in the online world of Web 2.0,6 where the enormous growth and easy accessibility of user based production technologies has seen a paradigm shift to collaborative communication, including collaborative journalism and broadcasting. The wiki, in its simplest terms a website that can be edited by users, is one such technology and it is rapidly changing the way people communicate, from social networking through to research, education and business. In line with this paradigm shift to collaborative communication and the rise of the wiki, this paper aims to highlight the copyright, defamation and privacy issues that are created through use of such a technology. This paper views the legal issues of wikis from the perspective of Australian law, with only occasional forays into comparative situations in other jurisdictions, particularly the United States. 1 This research has been undertaken as part of the Law Program of the ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation <http://www.cci.edu.au>. 2 Associate Lecturer, QUT Law Faculty. 3 Formerly a research assistant in the QUT Faculty of Law, presently a Trainee Solicitor at Hopgood Ganim Lawyers. 4 Professor of Law, QUT Law Faculty and Program Leader for Law in the ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation <http://www.cci.edu.au> and <http://www.ip.qut.edu.au>. -

Can History Be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past
Can History Be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past Roy Rosenzweig History is a deeply individualistic craft. The singly authored work is the standard for the profession; only about 6 percent of the more than 32,000 scholarly works indexed since 2000 in this journal's comprehensive bibliographic guide, "Recent Scholarship," have more than one author. Works with several authors—common in the sciences—are even harder to find. Fewer than 500 (less than 2 percent) have three or more authors.1 Historical scholarship is also characterized by possessive individualism. Good profes sional practice (and avoiding charges of plagiarism) requires us to attribute ideas and words to specific historians—we are taught to speak of "Richard Hofstadter's status anxi ety interpretation of Progressivism."2 And if we use more than a limited number of words from Hofstadter, we need to send a check to his estate. To mingle Hofstadter's prose with your own and publish it would violate both copyright and professional norms. A historical work without owners and with multiple, anonymous authors is thus al most unimaginable in our professional culture. Yet, quite remarkably, that describes the online encyclopedia known as Wikipedia, which contains 3 million articles (1 million of them in English). History is probably the category encompassing the largest number of articles. Wikipedia is entirely free. And that freedom includes not just the ability of any one to read it (a freedom denied by the scholarly journals in, say, JSTOR, which requires an expensive institutional subscription) but also—more remarkably—their freedom to use it. -

Wikipedia Und Geschichtswissenschaft
Thomas Wozniak, Jürgen Nemitz und Uwe Rohwedder (Hrsg.) Wikipedia und Geschichtswissenschaft Wikipedia und Geschichts- wissenschaft Herausgegeben von Thomas Wozniak, Jürgen Nemitz und Uwe Rohwedder ISBN 978-3-11-037634-0 e-ISBN (PDF) 978-3-11-037635-7 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-039871-7 Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-3.0-Lizenz. Weitere Informationen finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2015 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Dieses Buch ist als Open-Access-Publikation verfügbar unter www.degruyter.com. Einbandabbildung: By © Ralf Roletschek – Fahrradtechnik und Fotografie (Own work) [FAL, GFDL] Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck ♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com In memoriam Peter Haber 1964–2013 Vorwort Als vom23. bis 26.September 2014 in Göttingen der 50.Historikertag stattfand,war dort auch erstmalseine Sektion vertreten, die sich ausschließlich aufdas Thema „Wikipedia und Geschichtswissenschaft – eine Zwischenbilanz“ konzentriert hatte. Die Sektion warlangevorher geplant und beantragt worden, aber im Frühjahr 2014 hatte die breit geführte Debatte um das Seeschlachtenbuch des C.H.Beck-Verlages die Notwendigkeit einer Auseinandersetzungmit der Thematik deutlich gezeigt. Damals fanden sich wörtliche, aber nicht gekennzeichnete, Passagen ausder Wikipedia im 2013 erschienenen Werk „Große Seeschlachten: Wendepunkte der Weltgeschichte vonSalamis bis Skagerrak“ des VerlagesC.H. -

The Sad, Sad Story of Social Wikipedia a Long and Drawn-Out Tale of Change, More Change, and No Change Whatsoever
The Sad, Sad Story of Social Wikipedia A long and drawn-out tale of change, more change, and no change whatsoever. Necessary disclaimer Dates may be horribly wrong; assumptions of cause and effect may be terribly faulty; and general conclusions may be utterly arbitrary. This is all pieced together rather after the fact by someone who wasn't really there for any of it. Please don't eat me. The Before Times ● 1999: Nupedia ○ Precursor to Wikipedia, not really the same thing at all ○ Died horribly ● 2001: Wikipedia created using UseModWiki ○ Page-based storage engine written in perl ○ Discussions were inline or on the pages themselves UseModWiki 2001-2002: Phase 2 and Phase 3 ● Transition to new PHP platform ○ Phase 2: PHP attempt #1 ○ Phase 3: PHP attempt #2 - MediaWiki It looks basically the same. 2002: MediaWiki But what made it different? ● Wikitext ● Organisational tools ○ Namespaces ○ Watchlists, RecentChanges, Logs, and other special pages ○ Email notifications Discussion is now no longer in the articles themselves - separate namespaces are created as talk pages. Talk page formatting ● Discussions are separated with a header or a line between each ● Comments are signed and replies indented ● All formatting done manually Talk page editing == Top of talk page == Why do the instructions say to put this on the top of the talk page? I would never look at the top of my talk page for a message (until I can't find the new message at the bottom). -- <font color="#000080">Mufka</font> [[User:Mufka|<sup>(u)</sup>]] [[User talk:Mufka|<sup>(t)</sup>]] [[Special:Contributions/Mufka|<sup>(c)]]</sup> 12:24, 21 October 2008 (UTC) :Well I guess that's been resolved. -

Wikipédia : Outil D'élaboration/Gestion Des Connaissances
Wikipédia : outil d’élaboration/gestion des connaissances Mise à jour du 28 septembre 2013 Rémi Bachelet Ce cours est, avec son accord, largement issu du dossier de Laure Endrizzi, INRP (signalé en bas des diapos concernées) Version à jour, éditable et animée disponible ici : succès de Wikipédia Cours distribué sous licence Creative Commons, selon les conditions suivantes : Source des images indiquées au-dessous ou en cliquant sur l’image Cours de KM : Master Recherche MoMO, G3 Génie des organisations Image : Source 3/ Évaluation du succès de Wikipédia • Un succès ? À quel point ? • Wikipédia est-elle dépendante de Google ? • Est-ce le seul projet reposant sur MediaWiki ? Rémi Bachelet Licence cc-by 2 L'évolution d'un article en images • http://www.youtube.com/watch?v=p_Dwq68Vp5s – Une géolocalisation en temps réel des contributions anomynes http://www.lkozma.net/wpv/index_fr.html – Taille et éditeurs des changements en cours http://listen.hatnote.com/#fr Rémi Bachelet Licence cc-by 3 Succès et légitimité de Wikipédia • Wikipédia est « énorme » et en croissance exponentielle : 5-6ème site le plus visité au monde (Alexa, février 2010) 8 - 8.5% du trafic total d’Internet, soit environ 8 millions de visiteurs uniques / mois (janvier 2007) Moyenne de 5 pages vues par visite 50% des visiteurs viennent de Google – Pourquoi ? Citations par les autres sites = algorithme PageRank de Google Croissance exponentielle des contenus et des contributeurs (lien) temps de doublement ≈ 1 an (2003-2007 : 150.000=>300.000=>600.000) Depuis 2007, stabilisation des contributeurs • Un symbole du web 2.0 : Evolution pas seulement technologique mais aussi culturelle ? User Generated content => un changement de paradigme qui affecte toutes les strates de la production d'information . -

WIKIPEDIA, WORK and CAPITALISM a Realm of Freedom?
WIKIPEDIA, WORK AND CAPITALISM A Realm of Freedom? Arwid Lund Dynamics of Virtual Work Series Editors Ursula Huws De Havilland Campus Hertfordshire Business School Hatfield, UK Rosalind Gill Department of Sociology City University London London, UK Technological change has transformed where people work, when and how. Digitisation of information has altered labour processes out of all recognition whilst telecommunications have enabled jobs to be relocated globally. ICTs have also enabled the creation of entirely new types of ‘digital’ or ‘virtual’ labour, both paid and unpaid, shifting the borderline between ‘play’ and ‘work’ and creating new types of unpaid labour con- nected with the consumption and co-creation of goods and services. This affects private life as well as transforming the nature of work and peo- ple experience the impacts differently depending on their gender, their age, where they live and what work they do. Aspects of these changes have been studied separately by many different academic experts how- ever up till now a cohesive overarching analytical framework has been lacking. Drawing on a major, high-profile COST Action (European Cooperation in Science and Technology) Dynamics of Virtual Work, this series will bring together leading international experts from a wide range of disciplines including political economy, labour sociology, eco- nomic geography, communications studies, technology, gender studies, social psychology, organisation studies, industrial relations and develop- ment studies to explore the transformation of work and labour in the Internet Age. The series will allow researchers to speak across disciplin- ary boundaries, national borders, theoretical and political vocabularies, and different languages to understand and make sense of contemporary transformations in work and social life more broadly. -

The History, Application and Future Potential of Wiki‟S an Interactive Qualifying Project Report
The History, Application and Future Potential of Wiki‟s An Interactive Qualifying Project Report Interactive Qualifying Project Report completed in partial fulfillment of the Bachelor of Science degree at Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA Submitted to: Professor Fred J. Looft (advisor) Professor Xinming Huang (co-advisor) QIAN WEI [email protected] STEFAN GIUSTI [email protected] February 27th, 2009 ___________________________ Advisor Signature ___________________________ Co-advisor Signature Abstract: This report discusses the future of collaborative work and wiki systems, with a strong focus on educational impact of collaboration. This report shows the research done by the team on current wiki systems and course management software. The research is used to determine guidelines for the proper implementation of collaborative systems as well as provide specific innovations for collaborative systems. The report is meant to pave the way for more efficient and streamlined course management systems to improve higher education. ii Acknowledgements We would like to thank Professor Fred J. Looft and Professor Xinming Huang from Department of Electrical and Computer Engineering, Worcester Polytechnic Institute for their guidance, instruction and help. Also, we wish to express our gratitude to Sir Robert Brown, Manager of Computational Facilities and Administrator of Computer System of Department of Electrical and Computer Engineering, Worcester Polytechnic Institute for the technical support during the past twenty-one weeks. Your time and efforts are greatly respected and appreciated. Our group would like to graciously thank Xin Geng and Gao Wei for their great help and invaluable insights. iii Authorship Page This report was co-authored and edited equally by each contributing author.