Russia's Path to Modernity European Identity of The
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ancient, British and World Coins and Medals Auction 74 Wednesday 09 May 2012 10:00
Ancient, British and World Coins and Medals Auction 74 Wednesday 09 May 2012 10:00 Baldwin's Auctions 11 Adelphi Terrace London WC2N 6EZ Baldwin's Auctions (Ancient, British and World Coins and Medals Auction 74) Catalogue - Downloaded from UKAuctioneers.com Lot: 1001 Lot: 1005 ENGLISH COINS. Early Anglo ENGLISH COINS. Viking Saxon, Primary Sceattas (c.680- Coinage, Cnut, Penny, Cunetti c.710), Silver Sceat, BIIIA, type type, cross crosslet at centre, 27a, diademed head right with CNUT REX, rev short cross at protruding jaw, within serpent centre, pellets in first and third circle, rev linear bird on cross, quarters, within beaded circle, within serpent circle, annulets +CVN::NET::TI, 1.40g (N 501; S either side, pellets above beside 993). Well toned, one or two light bird, 0.87g (N 128; cf S 777B). marks, otherwise nearly Lightly toned, obverse die flaw, extremely fine otherwise well-struck, good very Estimate: £500.00 - £600.00 fine Estimate: £80.00 - £100.00 Lot: 1006 ENGLISH COINS. Viking Lot: 1002 Coinage of York, Danelaw (898- ENGLISH COINS. Early Anglo 915), Cnut, Patriarchal cross, C Saxon, Continental Sceattas N V T at cross ends, R E X in (c.695-c.740), Silver Sceatta, angles with pellets, rev small variety L, plumed bird right, cross, beaded circle around, annulet and pellet beside, rev +EBRAICE CIVITA.:, 1.45g (N standard with five annulets, each 497; S 991). Attractively toned, with central pellet, surmounting practically extremely fine. with old cross, 1.17g (cf N 49; S 791). Old pre-WWII Baldwin stock ticket cabinet tone, attractive extremely Estimate: £500.00 - £600.00 fine with clear and pleasing details Estimate: £80.00 - £100.00 Lot: 1007 ENGLISH COINS. -

Ume 10, -U Ser
Volume 10, -u ser . - 1968 Editors EDWARD S. DEEVEY a-- RICHARD FOSTER FLINT J. GORDON OGDEN, III _ IRVINg ROUSE Managing Editor RENEE S. KRA YALE UNIVERSITY NEW HAVEN, CONNECT.IC U l"ii)fl h d IiV r E AT\As g'LyyEi.. R C N, / r..? i.NA .3 8. ComIlient, usually corn ; fOg the date with other relevant dates, for each ,Ttdterial, silil"iiliari ing t e signitic.ance ant Sillpllilt 3't(i"r ing t., t t e radiocarbon t was i' itl ii73kinz 'P;.5 lit;re, i'; till teelmital :i"it.' i°_i , e.g. the iral lthout subscribers at $50.0( * Suggestions to authors of the reprints o the United Suites Geological Survey, 5th ed., Vashington, D. C., 1958 jc.=oscrxwxcn.t Panting ()ihce, $1.75). Volume 10, Number 1 - 1968 RADIOCARBON Published by THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE Editors EDWARD S. DEEVEY- RICHARD FOSTER FLINT J. GORDON OGDEN, III - IRVING ROUSE Managing Editor RENEE S. KRA YALE UNIVERSITY NEW HAVEN, CONNECTICUT VOL. 1 10, No. Radiocarbon 1965 CONTENTS Il1I Barker and John lackey British Museum Natural Radiocarbon Measurements V 1 BONN H. IV. Scharpenseel, F. Pietig, and M. A. Tawcrs Bonn Radiocarbon Measurements I ............................................... IRPA Anne Nicole Schreurs Institut Royal du Patrimoine Artistirlue Radiocarbon Dates I ........ 9 Lu Soren Hkkansson University of Lund Radiocarbon Dates I Lv F. Gilot Louvain Natural Radiocarbon Measurements VI ..................... 55 1I H. R. Crane and J. B. Griffin University of Michigan. Radiocarbon Dates NII 61 N PL IV. J. Callow and G. I. Hassall National Physical Laboratory Radiocarbon Measurements V .......... -

Pskov from Wikipedia, the Free Encyclopedia Coordinates: 57°49′N 28°20′E
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Pskov From Wikipedia, the free encyclopedia Coordinates: 57°49′N 28°20′E Pskov (Russian: Псков; IPA: [pskof] ( listen), ancient Russian spelling "Плѣсковъ", Pleskov) is Navigation Pskov (English) a city and the administrative center of Pskov Oblast, Russia, located about 20 kilometers Псков (Russian) Main page (12 mi) east from the Estonian border, on the Velikaya River. Population: 203,279 (2010 [1] Contents Census);[3] 202,780 (2002 Census);[5] 203,789 (1989 Census).[6] - City - Featured content Current events Contents Random article 1 History Donate to Wikipedia 1.1 Early history 1.2 Pskov Republic 1.3 Modern history Interaction 2 Administrative and municipal status Help 3 Landmarks and sights About Wikipedia 4 Climate Community portal 5 Economy Recent changes 6 Notable people Krom (or Kremlin) in Pskov Contact Wikipedia 7 International relations 7.1 Twin towns and sister cities Toolbox 8 References 8.1 Notes What links here 8.2 Sources Related changes 9 External links Upload file Special pages History [edit] Location of Pskov Oblast in Russia Permanent link Page information Data item Early history [edit] Cite this page The name of the city, originally spelled "Pleskov", may be loosely translated as "[the town] of purling waters". Its earliest mention comes in 903, which records that Igor of Kiev married a [citation needed] Print/export local lady, St. Olga. Pskovians sometimes take this year as the city's foundation date, and in 2003 a great jubilee took place to celebrate Pskov's 1,100th anniversary. Create a book Pskov The first prince of Pskov was Vladimir the Great's younger son Sudislav. -

Renaissance and Baroque Art and Culture in the Eastern Polish-Lithuanian Commonwealth (1506-1696)
Renaissance and Baroque Art and Culture in the Eastern Polish-Lithuanian Commonwealth (1506-1696) Renaissance and Baroque Art and Culture in the Eastern Polish-Lithuanian Commonwealth (1506-1696) By Urszula Szulakowska Renaissance and Baroque Art and Culture in the Eastern Polish- Lithuanian Commonwealth (1506-1696) By Urszula Szulakowska This book first published 2018 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2018 by Urszula Szulakowska All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-1135-9 ISBN (13): 978-1-5275-1135-4 For Stanisław Brodalka and Florian Brodalka CONTENTS List of Illustrations ..................................................................................... ix Acknowledgements .................................................................................. xiv Introduction ................................................................................................. 1 Chapter One ............................................................................................... 38 National Identity, Religious Confession and Class in the Eastern Polish- Lithuanian Commonwealth Chapter Two ............................................................................................. -
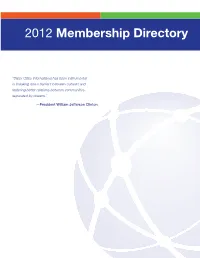
2012 Membership Directory
2012 Membership Directory “Sister Cities International has been instrumental in breaking down barriers between cultures and fostering better relations between communities separated by oceans.” —President William Jefferson Clinton 2 0 1 2 M e m b e r s h i p D i r e c t o r y b y U . S . S t a t e Alabama Arizona Arkansas Birmingham / POP 229,800 Chandler / POP 252,017 Heber Springs / POP 7,308 Al-Karak, Jordan Tullamore, Ireland Omoa, Honduras Anshan, China Chao Yang District, China Fountain Hills / POP 24,669 Hot Springs / POP 35,183 Coban, Guatemala Ataco, El Salvador Hamamaki, Japan Guediawaye, Senegal Dierdorf, Germany Gweru, Zimbabwe Kasterlee, Belgium Little Rock / POP 187,452 Hitachi, Japan Changchun, China Huangshi, China Gila Bend / POP 1,834 England, Newcastle upon Tyne Maebashi City, Japan No Reported Sister City Hanam City, Republic of Korea Plzen, Czech Republic Kaohsiung Municipality, Taiwan Pomigliano d’Arco, Italy Gilbert / POP 207,500 Mons, Belgium Rosh Ha’ayin, Israel Leshan, China Szekesfehervar, Hungary Newtownabbey, United Kingdom Marion / POP 12,217 Vinnytsya, Ukraine No Reported Sister City Winneba, Ghana Mesa / POP 452,933 Burnaby, Canada North Little Rock / POP 60,140 Mobile / POP 192,830 Caraz, Peru Uiwang City, Republic of Korea Ariel, Israel Guaymas, Mexico Bolinao, Philippines Kaiping, China St. Joe / POP 28 Cockburn, Australia New Zealand Bride, Isle of Mann, United Kingdom Constanta, Romania Gaeta, Italy Phoenix / POP 1,567,924 California Gianjin, China Calgary, Canada Alameda / POP 70,272 Havana, -

Auction 26 | September 15-17, 2016 | Session D
World Coins Session D Begins on Friday, September 16, 2016 at 14:00 PDT World Coins Europe (continued) 1232. GREAT BRITAIN: Commonwealth and Protectorate, 1649-1660, AR crown, 1658/7, KM-D207, Dav-3773, ESC-240, Spink-3226, Oliver Cromwell Protector issue, original Thomas Simon strike, a couple small reverse rim bumps, one-year type, VF, S $2,000 - 2,200 1227. GIBRALTAR: AE 2 quarts (9.08g), 1802, KM-Tn2.2, payable at R. Keeling, EF-AU $120 - 160 1233. GREAT BRITAIN: Commonwealth and Protectorate, 1649-1660, AE medal, 1658, Eimer-203, 38mm, death medal of Oliver Cromwell in silvered bronze, draped bust left with OLIVARIUS CROMWELL. around and I.DASSIER.F. at bottom / 1228. GIBRALTAR: AE quarto (4.41g), 1813, KM-Tn5, four genii tending monument with ANGLIAE. SCOL ET HIB. payable at Richard Cattons, Goldsmith, EF $120 - 160 PROTECTOR inscribed and NAT. 3. APRIL. 1603. MORT. 3. SEPT. 1658. in exergue, struck on cast planchet, part of Dassier’s Kings and Queens of England series, F-VF $75 - 100 1229. GIBRALTAR: AE 2 quartos (8.34g), 1820, KM-Tn9, payable at James Spittle’s, choice EF-AU $150 - 200 1234. GREAT BRITAIN: Charles II, 1660-1685, AR crown, 1662, KM-417.2, Dav-3774var, ESC-340, Spink-3350B, scarcer variety with striped cloak, central obverse a bit softly struck, old-time toning, VF $500 - 600 1230. GREAT BRITAIN: Elizabeth I, 1558-1603, AR shilling, S-2555, 2nd series, mintmark cross-crosslet (1560-61), VF $80 - 100 1235. GREAT BRITAIN: Anne, 1702-1714, AR ½ crown, 1745/3, KM-584.3, Spink-3695, LIMA under bust, F-VF $125 - 175 1231. -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe
G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

Читать (Text.Pdf 3,6
Департамент культуры Вологодской области Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина Вологодский государственный университет Кирилло-Белозерский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Русское географическое общество Вологодское региональное отделение Российского исторического общества ВОРОТЫНСКИЕ ЧТЕНИЯ. СРЕДНЕВЕКОВАЯ РОССИЯ: ВОЕННЫЙ И ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ ПРЕДКОВ Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Вологда – Кириллов, 5-7 сентября 2019 г.) Выпуск 1 Вологда ВОУНБ 2020 УДК 94(47).03/07 ББК 63.3(2)4/52 В75 Редколлегия: Саблин В. А. (ответственный редактор), Буханцева Т. Н., Колесова И. Е., Минаева Т. С., Пугач И. В., Судаков Г. В., Теребова Л. В., протоиерей Алексий Сорокин Рецензент: Кузьминых А. Л., д-р ист. наук, доцент В75 Воротынские чтения. Средневековая Россия: военный и духовный подвиг предков: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Вологда – Кириллов, 5-7 сентября 2019 г.) Вып. 1 / Департамент культуры Вологодской области, Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Вологодский государственный университет и др. ; [редколлегия : Саблин В. А. (ответственный редактор) и др.]. – Вологда : ВОУНБ, 2020. – 143 с.: ил., табл. – Текст : электронный. ISBN 978-5-904318-69-7 Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции «Воротынские чтения. Средневековая Россия: военный и духовный подвиг предков», которая прошла в Вологодской области 5-7 сентября 2019 года. Конференция, в которой приняли -

Finnisch-Ugrische Forschungen 65
FINNISCH-UGRISCHE FORSCHUNGEN Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Jussi Ylikoski Arja Hamari Lotta Jalava Band 65 Helsinki 2020 Redaktion der Zeitschrift Chefredakteur Jussi Ylikoski Assoziierte Redakteurinnen Arja Hamari & Lotta Jalava Redaktionssekretärin Anna Kurvinen Deutsche Redaktion Gabriele Schrey-Vasara Englische Redaktion Christopher Culver & Alexandra Kellner Layout Anna Kurvinen Wissenschaftlicher Beirat Ante Aikio, Marianne Bakró-Nagy, Ulla-Maija Forsberg, Riho Grünthal, Kaisa Häkkinen, Cornelius Hasselblatt, Juha Janhunen, Petri Kallio, Gerson Klumpp, Martin Joachim Kümmel, Johanna Laakso, Valter Lang, Ildikó Lehtinen, Karina Lukin, Irma Mullonen, Sirkka Saarinen, Elena Skribnik, Beáta Wagner-Nagy journal.fi/fuf Bestellungen: www.tiedekirja.fi issn 0355-1253 isbn 978-952-7262-21-4 (Buch) isbn 978-952-7262-22-1 (pdf) Kirjapaino Hermes Oy Tampere 2020 Inhalt Band 65 Luobbal Sámmol Sámmol Ánte (Ante Aikio; Sámi University of Applied Sciences) Loanwords from unattested Nordic source forms in Saami ............5 – 24 Mariann Bernhardt (University of Turku) Encoding definiteness on pronominal objects in Mordvinic ........ 25 – 61 Juho Pystynen (University of Helsinki) On the development of *i in Permic .................................................62 – 97 Jaakko Raunamaa (University of Helsinki) The distribution of village names based on pre-Christian Finnic personal names in the northern Baltic Sea area .................98 – 152 Besprechungen Riho Grünthal -
Between Concept and Identity
Between Concept and Identity Between Concept and Identity Edited by Esteban Fernández-Cobián Between Concept and Identity, Edited by Esteban Fernández-Cobián This book first published 2014 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2014 by Esteban Fernández-Cobián and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-6520-6, ISBN (13): 978-1-4438-6520-3 TABLE OF CONTENTS List of Figures and Tables...................................................................................... ix List of Contributors.............................................................................................. xxi Editor’s Preface ................................................................................................ xxiii Esteban Fernández-Cobián, Chair of CIARC-ICCRA List of Abbreviations .......................................................................................... xxv Section 1 - The Expression of the Identity of Christian Art and Architecture 1. Steven J. Schloeder, USA .................................................................................. 3 The Architecture of the Mystical Body. How to Build Churches -

The January 2015 NYINC Internet Auction Ancient Coins, World Coins & Paper Money
The January 2015 NYINC Internet Auction Ancient Coins, World Coins & Paper Money Bidding Ends 3:00 PM PT Tuesday, January 13, 2015 Stack’s Bowers Galleries Upcoming Auction Schedule Coins and Currency Date Auction Consignment Deadline Continuous Stack’s Bowers Galleries Weekly Internet Auctions Continuous Closing Every Sunday January 9-10, 2015 Stack’s Bowers Galleries – World Coins & Paper Money Request a Catalog An Ocial Auction of the NYINC New York, NY February 5-6, 2015 Stack’s Bowers Galleries – U.S. Coins Closed Americana Sale New York, NY March 5-7, 2015 Stack’s Bowers Galleries –U.S. Coins January 13, 2015 Ocial Auction of the Portland National Money Show March 26-29, 2015 Stack’s Bowers Galleries – U.S. Coins & Currency February 2, 2015 Ocial Auction of the Whitman Coin & Collectibles Baltimore Expo Baltimore, MD March 30-April 1, 2015 Stack’s Bowers and Ponterio – World Coins & Paper Money January 30, 2015 Hong Kong Auction of Chinese and Asian Coins & Currency Hong Kong May 14, 2015 Stack’s Bowers Galleries – U.S. Coins TBD e D. Brent Pogue Collection, Part I New York, NY July 16-19, 2015 Stack’s Bowers Galleries – U.S. Coins May 25, 2015 Ocial Auction of the Whitman Coin & Collectibles Baltimore Expo Baltimore, MD August 11-15, 2015 Stack’s Bowers Galleries – World Coins & Paper Money June 9, 2015 An Ocial Auction of the ANA World’s Fair of Money Chicago, IL August 11-15, 2015 Stack’s Bowers Galleries – U.S. Coins & Currency June 15, 2015 An Ocial Auction of the ANA World’s Fair of Money Chicago, IL August 24-26, 2015 Stack’s Bowers and Ponterio – World Coins & Paper Money June 17, 2015 Hong Kong Auction of Chinese and Asian Coins & Currency Hong Kong October 1, 2015 Stack’s Bowers Galleries – U.S. -

In the Footsteps of Rurik a Guide to the Viking History of Northwest Russia
In The Footsteps of Rurik A guide to the Viking History of Northwest Russia By Dan Carlsson and Adrian Selin Financed by EU In the footsteps of Rurik A guide to the Viking History of Northwest Russia By Dan Carlsson and Adrian Selin Financed by EU 3 AUTHORS Dan Carlsson, Adrian Selin LAYOUT AND FORM Dan Carlsson ILLUSTRATIONS AND PHOTOS Dan Carlsson, if not otherwise stated COVER PHOTO AND LAYOUT Photo Natalia Eunisova Layout Roland Hejdström PROJECT IMPLEMENTED by HTSPE and EuroTrends under contract 2011/260-699 © 2012 NDCP and the authors 4 Preface Northern Dimension Partnership on Culture The Northern Dimension (ND) is a common policy of the EU, Russia, Norway and Iceland, with Belarus also playing an increasingly important role in the cooperation. ND was first initiated in 1999, and it gained new momentum after the adoption of a revised ND Action Plan in 2006. ND is based on the principle of equal partnership among the partners. The cooperation takes place in the form of meetings of senior representatives from the participating countries as well as in the four partnerships: The ND Environmental Partnership (NDEP), the ND Partnership for Public Health and Social Well-being (NDPHS), the ND Partnership for Transport and Logistics (NDPTL) and the ND Partnership for Culture (NDPC). The NDPC is one of the newer partnerships. Its preparation started in 2008. In May 2010 a Memorandum of Understanding was signed between the participating countries and an NDPC Action Plan was submitted to the ND Ministerial Meeting in November 2010. The Partnership became operational in January 2011, and it has a small secretariat hosted by the Nordic Council of Ministers in Copenhagen.