Pilipinas Muna! Филиппины Прежде Всего!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nytårsrejsen Til Filippinerne – 2014
Nytårsrejsen til Filippinerne – 2014. Martins Dagbog Dorte og Michael kørte os til Kastrup, og det lykkedes os at få en opgradering til business class - et gammelt tilgodebevis fra lidt lægearbejde på et Singapore Airlines fly. Vi fik hilst på vore 16 glade gamle rejsevenner ved gaten. Karin fik lov at sidde på business class, mens jeg sad på det sidste sæde i økonomiklassen. Vi fik julemad i flyet - flæskesteg med rødkål efterfulgt af ris á la mande. Serveringen var ganske god, og underholdningen var også fin - jeg så filmen "The Hundred Foot Journey", som handlede om en indisk familie, der åbner en restaurant lige overfor en Michelin-restaurant i en mindre fransk by - meget stemningsfuld og sympatisk. Den var instrueret af Lasse Hallström. Det tog 12 timer at flyve til Singapore, og flyet var helt fuldt. Flytiden mellem Singapore og Manila var 3 timer. Vi havde kun 30 kg bagage med tilsammen (12 kg håndbagage og 18 kg i en indchecket kuffert). Jeg sad ved siden af en australsk student, der skulle hjem til Perth efter et halvt år i Bergen. Hans fly fra Lufthansa var blevet aflyst, så han havde måttet vente 16 timer i Københavns lufthavn uden kompensation. Et fly fra Air Asia på vej mod Singapore forulykkede med 162 personer pga. dårligt vejr. Miriams kuffert var ikke med til Manilla, så der måtte skrives anmeldelse - hun fik 2200 pesos til akutte fornødenheder. Vi vekslede penge som en samlet gruppe for at spare tid og gebyr - en $ var ca. 45 pesos. Vi kom i 3 minibusser ind til Manila Hotel, hvor det tog 1,5 time at checke os ind på 8 værelser. -

Against Mediocre Imagetexts, Toward Critical Comedy: Balagtas‟S Fourth Revolt in Dead Balagtas
―Textual Mobilities: Diaspora, Migration, Transnationalism and Multiculturalism‖ | Against Mediocre Imagetexts, toward Critical Comedy: Balagtas‟s Fourth Revolt in Dead Balagtas Arbeen R. Acuna Dept. of Filipino & Philippine Literature, College of Arts & Letters, University of the Philippines Philippines [email protected] Abstract This paper looks into the influence of the poet Francisco Balagtas (1788-1862) to the webcomics Dead Balagtas (2013—present) by Emiliana Kampilan, who acknowledges that her work tries to express the revolts of its namesake. Kampilan is an avatar / character / author created by an anonymous author. In the essay ―Apat na Himagsik ni Balagtas‖ (Four Revolts of Balagtas) (1988), Lope K. Santos enumerated what the poet was rising against: cruel government, religious conflict, bad attitude and mediocre literature. This paper focuses on the last revolt to show how Kampilan leads by example of what an imagetext (according to Mitchell 1994) can be and how the medium operates toward potential ―critical comedy‖ (according to McGowan 2014). As Balagtas utilized the popular form of awit or korido to interrogate colonialism and its consequences, Kampilan maximizes contemporary web komix that references various types of texts to critically analyze neocolonialism, neoliberalism and hegemony. She also mocks, in a humorous manner, the privileged status and sense of entitlement of the elite and the middle class—the ones expected to access, read and understand her works; thus, the avatar-author, being a petty bourgeois herself, seemingly exhibits self- reflexivity and encourages such an attitude of being self- and class-critical among her target readers. By combining elements that shall appeal to consumers of popular entertainment and to sophisticated students and enthusiasts of literature and history, Kampilan proposes a novel way of creating komix, and, in the process, advances a standard that balances complex forms with substantial content. -

Florante at Laura Full Story Pdf
Florante at laura full story pdf Continue This article needs additional quotes to verify. Please help improve this article by adding quotes to reliable sources. Non-sources of materials can be challenged and removed. Find sources: Florante on Laura - news newspaper book scientist JSTOR (March 2014) (Learn how and when to delete this template message) Florante on the Laura Title page of the 1913 book featuring Florante in LauraAuthorFrancisco BalagtasCountryCaptaincy General of the PhilippinesLanguageTagalogGenreFiction, Epic PoetryPublished1869-1-ISBN978-1784350925 Part series on the history of the Philippines Backstory (up to 900)Paleolithic age Awidon Mesa Formation Callao Limestone Formation of the Neolithic age of Callao and Tabon Peoples Arrival Negritos Austro-Nesian expansion Angon Petroglyphs Lal Lo and Gattaran Shell Middens Jade Culture Iron Age Sa Huỳnh Cultural Society Igorot Ancient Barangays Events / Artifacts Balangay Graves Mananggul Jar prehistoric gems Sa Huỳnh-Kal Anai complex Maitum anthropomorphic ceramics Archaic era (9 00-1565)Historically documented city-state/politics (by geography from north to south) Samtoy chief Caboloan Tondo Namayan Rajanate Mainila Mai Maja-as chief Taitai Rajahnate Cebu Rajahnate Butuan Sultanate Magindanao Lanao Confederate Sultanat Sulula Legendary Suvarnapuri Chryse Ophir Tawalisi Al-Wawak Sanfoci zabag Kingdom Ten Bornean Date Events / Artifacts Maragtas Laguna Copperpla Inscription Butuan Ivory Seal Limestone Tomb Of Batanes Tombs Gold Tara Gold Kinnara Ticao Stone Inscription Butuan Silver Paleographer Buddhist Art Brunei War Colonial Period (1565-1946)Spanish Epoch Journey Ferdinand Magellan Battle Of Mactan Voyage of Miguel Lopez de Legazpi Spanish takeover of Manila New Spain Captaining General of the Spanish East Indies Manila Galleon Uprising and rebellion of the Chinese invasion of the Spanish-Moro conflict Dutch invasions of the British Invasion Propaganda Movement 1872 Cavite mutiny La League Filipina Katipunan Cry Pugad Loin Philippine Revolution Tejeros Convention Rep. -
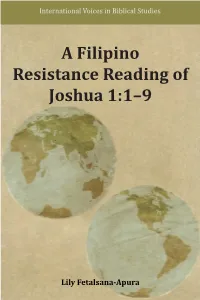
A Filipino Resistance Reading of Joshua 1:1-9
International Voices in Biblical Studies A FILIPINO RESISTANCE READING OF JOSHUA 1:1–9 OF JOSHUA READING A FILIPINO RESISTANCE Lily Fetalsana-Apura uses contextual hermeneutics to offer an alternative interpretation of Joshua 1:1–9 that counters and resists historical-critical and theological readings legitimizing A Filipino Western conquests and imperialism. After outlining exegetical and hermeneutical procedures for contextual interpretation, she reads the Former Prophets in the context of four hundred years of colonial Resistance Reading of victimization and a continuing struggle against neocolonialism by marginalized and exploited communities such as those in the Philippines. She argues that Joshua 1:1–9 exhorts strength and courage against exploitation and domination by empire. Her work Joshua 1:1–9 subvert imperial ideology and that can serve as a model for other work inidentifies contextual themes hermeneutics and concepts of biblical in the texts. Deuteronomistic History that is an assistant professor in the Silliman studiesLILY FETALSANA-APURA courses. University Divinity School in the Philippines. She teaches biblical FETALSANA-APURA Electronic open access edition (ISBN 978-0-88414-333-8) available at http://ivbs.sbl-site.org/home.aspx Lily Fetalsana-Apura A FILIPINO RESISTANCE READING OF JOSHUA 1:1–9 INTERNATIONAL VOICES IN BIBLICAL STUDIES Jione Havea Jin Young Choi Musa W. Dube David Joy Nasili Vaka’uta Gerald O. West Number 9 A FILIPINO RESISTANCE READING OF JOSHUA 1:1–9 by Lily Fetalsana-Apura Atlanta Copyright © 2019 by Lily Fetalsana-Apura All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by means of any information storage or retrieval system, except as may be expressly permit- ted by the 1976 Copyright Act or in writing from the publisher. -

FILIPINO General Examination Information
California Subject Examinations for ® Teachers TEST GUIDE FILIPINO General Examination Information Copyright © 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Evaluation Systems, Pearson, P.O. Box 226, Amherst, MA 01004 California Subject Examinations for Teachers, CSET, and the CSET logo are trademarks of the Commission on Teacher Credentialing and Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). Pearson and its logo are trademarks, in the U.S. and/or other countries, of Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). CS-TG-FILIGI-06 Test Structure for CSET: Filipino CSET: Filipino consists of two separate subtests, each composed of constructed-response questions. Each subtest is scored separately. The structure of the examination is shown in the table below. CSET: Filipino Number of Constructed- Subtest Domains Response Questions I General Linguistics 1 short (focused) Linguistics of the Target Language 3 short (focused) Literary and Cultural Texts and Traditions 1 extended Cultural Analysis and Comparisons 1 extended 4 short (focused) Subtest Total 2 extended II Language and Communication: Oral Expression 2 short (focused) Language and Communication: Listening Comprehension 2 short (focused) Language and Communication: Reading Comprehension 2 short (focused) Language and Communication: Written Expression 1 extended 6 short (focused) Subtest Total 1 extended California Subject Examinations for Teachers Test Guide 1 Bilingual Authorization Information Effective fall 2007, specific CSET: World Languages subtests replaced Tests 4, 5, and 6 of the BCLAD Examinations as the required assessments for individuals who wish to use the exam route to earn a Bilingual Authorization. For more information refer to the Commission on Teacher Credentialing (CTC) website at www.ctc.ca.gov or the California Educator Credentialing Examinations website at www.ctcexams.nesinc.com. -

Filipino Martial Arts and the Construction of Filipino National Identity
Filipino Martial Arts And the Construction of Filipino National Identity A thesis submitted to the University of Manchester For the degree of Doctor of Philosophy In the Faculty of Humanities 2015 Rey Carlo T. Gonzales School of Arts, Languages and Cultures Table of Contents Plates…………………………………………………………………………….........4 Abstract…………………………………………………………….…………………5 Declaration…………………………………………………………………………...6 Copyright Statement……………………………………………..……………….. …7 Acknowledgements and Dedication………………………………………………….8 Introduction…………………………………………………………………………9 Historical Framework……………………………………………………….11 Method and Sources…………………………………………………….…..27 Scope, Structure and Contents………………………………………………32 Chapter I - Old School: Homogeneity, Diversity, and the Early Practice of FMA………………………………………………………………………………..37 Sixteenth Century Warfare in Visayan Barangays…………………………39 Arnis, Kali, Eskrima and the Historical Narrative of FMA………………...45 FMA Old School……………………………………………………………54 Conclusion………………………………………………………………..…69 Chapter II - New School: The emergence of FMA Clubs and the Construction of National Identity from FMA…………………………………………………...71 Emergence of the New School……………………………………………...74 Juego Todo and Martial Prowess as Prestige……………………………….79 Conflicts between and within FMA Clubs, and the strengthening of local FMA identities………………………………………………………………87 Creation of ‘Filipino’ in FMA from abroad………………………………...94 NARAPHIL and ARPI: State Appropriation of FMA and FMA’s Appropriation of Nationalism………………………………….98 Conclusion…………………………………………………………………105 Chapter -

The Great Filipino Heroes Supplementary for the Students
THE GREAT FILIPINO HEROES SUPPLEMENTARY FOR THE STUDENTS compiled and edited by: Rheno A. Velasco LOACAN PUBLISHING HOUSE Publisher / Distributor Philippine Copyright 1997 All Rights Reserved Copyright c 1997 by Rheno A. Velasco and Loacan Publishing House Published & Exclusively Distributed by: LOACAN PUBLISHING HOUSE ISBN. 971-668-025-2 TABLE OF CONTENSTS CHAPTER PAGE 1 OUR GREAT HEROES General Emilio Aguinaldo 1-2 Teodora Alonzo 3 Cayetano S. Arellano 4-5 Melchora Aquino 6-7 Francisco Baltazar 8-9 Andres Bonifacio 10-11 Jose Apolonio Burgos 12 Felipe Calderon 13 Francisco Dagohoy 14 Gregorio del Pilar 15 Marcelo H. del Pilar 16 Mariano Gomez 17 Emilio Jacinto 18-19 Graciano Lopez Jaena 20 Sultan Kudarat 21 Rajah Lakandula 22 Lapu-Lapu 23 General Antonio Luna 24-25 Juan Luna 26-27 Teresa Magbanua 28-29 Apolinario Mabini 30-31 General Miguel Malvar 32-33 Timoteo Paez 34-35 Pedro A. Paterno 36 Tomas Pinpin 37 Panday Pira 38 Mariano Ponce ..39 Purmassuri 40 Jose Rizal 41-42 Margarita Roxas . 43 Ignacia del Espiritu Santo .44 Jose Abad Santos 45-46 Epifanio de los Santos .47 Diego Silang 48 Reyna Sima ......49 Princess Urduja 50 Raja Soliman 51 Jose Palma Velasco 52 Jacinto Zamora 53 Gabriela Silang 54 CHAPTER II REMEMBERING THE CONTRIBUTION OF SOME FILIPINO HEROES 55-94 Alejandro Roces Jr. Ambrosio Flores Anaclito Lacson Ananias Diokno Antonio Ma. Regidor Artemio Ricarte Baldemero Aguinaldo Bonifacio Arevalo Candido Iban Candido Tirona Carlos P. Romulo Cesar Fernando Basa Claro M. Recto Crispulo Aguinaldo Cripulo Zamora Daniel Maramba Eleuterio Adevoso Esteban Contreras Felipe Salvador Felix Napao Galura Fernando Ma. -

Balagtas' Fourth Revolt in Dead Balagtas
BALAGTAS’ FOURTH REVOLT IN DEAD BALAGTAS Arbeen R. Acuña Abstract This paper looks into the influence of the poet Francisco Balagtas (1788-1862) on the webcomics Dead Balagtas (2013-present) by Emiliana Kampilan, who acknowledges that her work tries to express the revolts of its namesake. Kampilan is an avatar / character / author created by an anonymous author. In the essay “Apat na Himagsik ni Balagtas” (Four Revolts of Balagtas) (1988), Lope K. Santos enumerated what the poet was revolting against: cruel government, religious conflict, bad attitude, and mediocre literature. This paper focuses on the last revolt to show how Kampilan leads by example of what an imagetext (Mitchell 1994) can be and how the medium operates toward potential “critical comedy” (McGowan 2014). As Balagtas utilized the popular form of awit or corrido to interrogate colonialism and its consequences, Kampilan maximizes contemporary web komix that references various types of texts to critically analyze neocolonialism, neoliberalism and hegemony. She also mocks the privileged status and sense of entitlement of the elite and the middle class—those expected to access, read, and understand her works; thus, the avatar- author, being a petty bourgeois herself, exhibits self-reflexivity and encourages an attitude of being self- and class-critical among her target readers. By combining elements that appeal to consumers of popular entertainment as well as to students and enthusiasts of literature and history, Kampilan proposes a novel way of creating komix, and, in the -

Florante at Laura and the Formalization of Tradition in Tagalog Poetry
philippine studies Ateneo de Manila University • Loyola Heights, Quezon City • 1108 Philippines Florante at Laura and the Formalization of Tradition in Tagalog Poetry Bienvenido Lumbera Philippine Studies vol. 15, no. 4 (1967): 545–575 Copyright © Ateneo de Manila University Philippine Studies is published by the Ateneo de Manila University. Contents may not be copied or sent via email or other means to multiple sites and posted to a listserv without the copyright holder’s written permission. Users may download and print articles for individual, noncom- mercial use only. However, unless prior permission has been obtained, you may not download an entire issue of a journal, or download multiple copies of articles. Please contact the publisher for any further use of this work at [email protected]. http://www.philippinestudies.net Fri June 30 13:30:20 2008 Florante at Laura and the Formalization of Tradition in --Tagalog Poetry BlENVENlDO LUMBERA ROWING urbanizaiion towards the end of the eighteenth century altered the composition of the audience for Taga- log poetry. A middle class elite was coming up and the simple rewards of folk and pious poetry no longer satisfied an audience of idbs who had come down from the hills or out of the hinterlands and taken pride in being town-dwellers. Through a web of fantasy and ornate language, glimpses of me- dieval court life were revealed by metrical romances (awit and corrido) based on Spanish ballads. Jose de la Cruz (1746-1829), also known as "Huseng Sisiw," seemed to have intuited that the new subject matter-the loves of highborn knights and maidens-required a different language. -

Francisco Balagtas - Poems
Classic Poetry Series Francisco Balagtas - poems - Publication Date: 2012 Publisher: Poemhunter.com - The World's Poetry Archive Francisco Balagtas(2 April 1788 – 20 February 1862) Francisco Baltazar y dela Cruz, known much more widely through his nom-de- plume Francisco Balagtas, was a prominent Filipino poet, and is widely considered as the Tagalog equivalent of William Shakespeare for his impact on Filipino literature. The famous epic, Florante at Laura, is regarded as his defining work. <b>Early life</b> Francisco Baltazar was born on April 2, 1788 in Barrio Panginay, Bigaa, Bulacan as the youngest of the four children of Juan Baltazar, a blacksmith, and Juana de la Cruz. He studied in a parochial school in Bigaa and later in Manila. During his childhood years. Francisco later worked as houseboy in Tondo, Manila. <b>Awards and titles</b> The popular Filipino debate form Balagtasan is named after Balagtas. Balagtas also won an award during his schooldays and graduated valedictorian in Madrid. He was recognized by the Pahayagang Kastilyano (Spanish Declaration) and became the front cover for two weeks. <b>Life as a poet</b> Balagtas learned to write poetry from José de la Cruz (Huseng Sisiw), one of the most famous poets of Tondo. It was de la Cruz himself who personally challenged Balagtas to improve his writing. (source: Talambuhay ng mga Bayani, for Grade 6 textbook) In 1835, Balagtas moved to Pandacan, where he met María Asunción Rivera, who would effectively serve as the muse for his future works. She is referenced in Florante at Laura as 'Celia' and 'MAR'. -

UNITAS November 2017
ISSN: 0041-7149 VOL. 90 • NO. 2 • NOVEMBER 2017 UNITASSemi-annual Peer-reviewed international online Journal of advanced reSearch in literature, culture, and Society Speculations on the Filipino Sexual/Textual Politics in Diaspora: Recognizing the Women of Ophelia A. Ourselves in OFWs; or Dimalanta’s Poems Progress Over Our Dead Ma. SoCorro Q. PErEz Bodies E. San Juan, Jr. The Toponymic Inscription of Sulu in Oral Narratives A Certain Tendency: annE ChriStinE EnSoMo Europeanization as a Response to Americanization Politics of Immigration Control in the Philippines’ “Golden- and Detention in Post-war Age” Studio System Japan: The Mobility JoEl DaviD Experiences of Koreans YongMi ri Unveiling Sacred Women: Musical Representations of Unravelling Negative Capability the Changing Construct for Potential Transmediation in of Femininity in the Mass The Grave Bandits (2012) Settings of the Manual- DaME B. avElino Cantoral para el uso de las Religiosas de Santa Clara de la Ang Hermano Mayor Ciudad de Manila (1871-1874) (Kuwentong Capampangan ni Maria alExanDra Braulio D. Sibug) iÑigo Chua lourDES h. viDal Indexed in the International Bibliography of the Modern Language Association of America UNITAS is an international online peer-reviewed open-access journal of advanced research in literature, culture, and society published bi-annually (May and November). UNITAS is published by the University of Santo Tomas, Manila, Philippines, the oldest university in Asia. It is hosted by the Department of Literature, with its editorial address at the Office of the Scholar-in-Residence under the auspices of the Faculty of Arts and Letters. Hard copies are printed on demand or in a limited edition. -

How Kristo Democratized Langit: the Discourse of Liberation in Christianized Katagalugan
KRITIKE VOLUME FIFTEEN NUMBER ONE (JUNE 2021) 1-20 Article How Kristo Democratized Langit: The Discourse of Liberation in Christianized Katagalugan Agustin Martin G. Rodriguez Abstract: This paper is a philosophical exploration on the native appropriation of the Christian rationality for the creation of a discourse of genuine liberation. This appropriation stimulated the native creation of the discourse of Kaharian ng Langit which shaped the millenarian revolts, the Revolution of 1896, and even subsequent reform and liberation movements in the Philippines. Through a hermeneutical reflection on the babaylan cosmology and the transformation of the concept of the ideal society during the Spanish colonization, the author will show how the indigenous rationality created a new vision of a good society from the imposed colonizing rationality which it appropriated to their own babaylan cosmology. The study will begin by articulating the native concept of a balanced cosmos where humans and spirits of nature are engaged in systems of mutual flourishing. It will then show how the imposition of the Pasyon cosmology enriched the babaylan cosmos by breaking heaven open for the ducha to consider such as a realm of power into which the ducha could tap into for empowerment. The paper will argue that this democratization of Langit, which made it accessible to the ducha, allowed them to imagine a better world that would liberate them from the bayang sawi created by the Spanish and this image allowed for the millenarian revolts and Katipunan revolution and continues to influence liberation movements in this nation. Keywords: Katipunan, Pasyon, Bayang Sawi, Revolution of 1896, Florante at Laura © 2021 Agustin Martin G.