Golden Horde Review No 3 2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
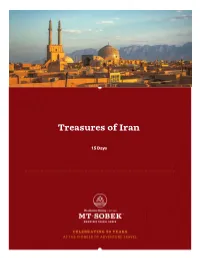
Treasures of Iran
Treasures of Iran 15 Days Treasures of Iran Home to some of the world's most renowned and best-preserved archaeological sites, Iran is a mecca for art, history, and culture. This 15-day itinerary explores the fascinating cities of Tehran, Shiraz, Yazd, and Isfahan, and showcases Iran's rich, textured past while visiting ancient ruins, palaces, and world-class museums. Wander vibrant bazaars, behold Iran's crown jewels, and visit dazzling mosques adorned with blue and aqua tile mosaics. With your local guide who has led trips here for over 23 years, be one of the few lucky travelers to discover this unique destination! Details Testimonials Arrive: Tehran, Iran “I have taken 12 trips with MT Sobek. Each has left a positive imprint on me Depart: Tehran, Iran —widening my view of the world and its peoples.” Duration: 15 Days Jane B. Group Size: 6-16 Guests "Our trip to Iran was an outstanding Minimum Age: 16 Years Old success! Both of our guides were knowledgeable and well prepared, and Activity Level: Level 2 played off of each other, incorporating . lectures, poetry, literature, music, and historical sights. They were generous with their time and answered questions non-stop. Iran is an important country, strategically situated, with 3,000+ years of culture and history." Joseph V. REASON #01 REASON #02 REASON #03 MT Sobek is an expert in Iran Our team of local guides are true This journey exposes travelers travel, with over five years' experts, including Saeid Haji- to the hospitality of Iranian experience taking small Hadi (aka Hadi), who has been people, while offering groups into the country. -

Early Islamic Architecture in Iran
EARLY ISLAMIC ARCHITECTURE IN IRAN (637-1059) ALIREZA ANISI Ph.D. THESIS THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 2007 To My wife, and in memory of my parents Contents Preface...........................................................................................................iv List of Abbreviations.................................................................................vii List of Plates ................................................................................................ix List of Figures .............................................................................................xix Introduction .................................................................................................1 I Historical and Cultural Overview ..............................................5 II Legacy of Sasanian Architecture ...............................................49 III Major Feature of Architecture and Construction ................72 IV Decoration and Inscriptions .....................................................114 Conclusion .................................................................................................137 Catalogue of Monuments ......................................................................143 Bibliography .............................................................................................353 iii PREFACE It is a pleasure to mention the help that I have received in writing this thesis. Undoubtedly, it was my great fortune that I benefited from the supervision of Robert Hillenbrand, whose comments, -

Iran Eco Adventure Tours
Iran Eco Adventure TOURS “My mother was one of the first professional female rock climbers in Iran and she was the memberof first Iranian student team to climb Mount Everest.She introduced my uncle to mountaineering then my uncle in turn converted other members of the family.” SahandAghdaie recalls as he explains the backstory of Iran Eco Adventure. For Sahand, the founder and CEO of Iran Eco Adventure Tours Co., mountaineering and nature are like family heirlooms. Thus, he joined his uncle in 2006 to bring into being one of the pioneer Iranian companies in Eco adventures. Iran Eco Adventure is the brand name of incoming tours and a division of Spilet Eco Adventures Co. It’s an Iran based company and for over 10 years we’ve been made memories and trips for people who love outdoor activities and hiking, have a passion for travel and a bucket list of exciting adventures. Iran Eco Adventure Our travel experience runs deep, from years mountaineering and traveling in nature of Iran to research trips and just bouncing around every corner of the country. This deep experience is the reason behind our pioneering approach to winning itineraries. Whether you’ve taken many trips, or you’re tying up for the first time, we design and offer everything in the tour program according to your needs. Our tours offer variety of adventure activities ranging from hiking, trekking and biking to alpine skiing and desert safari. Giving you the joy of adventure in numerous locations of our beautiful country under our proficiency steam is what our company mission is all about and we pride ourselves on our knowledge of destinations and our dedication to nature. -
The Land of Glory and Beauties
IRAN The Land of Glory and Beauties Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization www.tourismiran.ir Iran is the land of four seasons, history and culture, souvenir and authenticity. This is not a tourism slogan, this is the reality inferred from the experience of visitors who have been impressed by Iran’s beauties and amazing attractions. Antiquity and richness of its culture and civilization, the variety of natural and geographical attractions, four - season climate, diverse cultural sites in addition to different tribes with different and fascinating traditions and customs have made Iran as a treasury of tangible and intangible heritage. Different climates can be found simultaneously in Iran. Some cities have summer weather in winter, or have spring or autumn weather; at the same time in summer you might find some regions covered with snow, icicles or experiencing rain and breeze of spring. Iran is the land of history and culture, not only because of its Pasargad and Persepolis, Chogha Zanbil, Naqsh-e Jahan Square, Yazd and Shiraz, Khuzestan and Isfahan, and its tangible heritage inscribed in the UNESCO World Heritage List; indeed its millennial civilization and thousands historical and archeological monuments and sites demonstrate variety and value of religious and spiritual heritage, rituals, intact traditions of this country as a sign of authenticity and splendor. Today we have inherited the knowledge and science from scientists, scholars and elites such as Hafez, Saadi Shirazi, Omar Khayyam, Ibn Khaldun, Farabi, IRAN The Land of Glory and Beauties Ibn Sina (Avicenna), Ferdowsi and Jalal ad-Din Muhammad Rumi. Iran is the land of souvenirs with a lot of Bazars and traditional markets. -

History of the Crusades. Episode 298. the Baltic Crusades. the Lithuanian Conflict Part III
History of the Crusades. Episode 298. The Baltic Crusades. The Lithuanian Conflict Part III. Trying Times. Hello again. Last week we saw Samogitia rise up in rebellion, which in turn aroused suspicions in the Grand Master as to Vytautas' involvement in Samogitian affairs. The Grand Master of the Teutonic Order ended up invading Lithuania, with the aim of ousting Vytautas and placing the Order's new ally, one of Jogaila's younger brothers, into the position of Grand Duke of Lithuania. However, while the two-pronged Teutonic raid into Lithuania netted the Order a bunch of prisoners and caused a great deal of damage, it didn't end up defeating Vytautas, who left Lithuania to deal some devastating blows to Teutonic possessions in Samogitia and Livonia. By the end of last week's episode, both sides had had enough of the destructive conflict, and had met to thrash out a peace agreement. The attempts to broker a peace deal which both sides could accept continued on and off until a breakthrough occurred in May of the year 1404. Interestingly, these peace talks didn't involve Vytautas, who was off campaigning in the Russian Principalities, but the two principal attendees - Grand Master Konrad von Jungingen and the King of Poland Jogaila - managed to come up with an arrangement which involved all three parties, the Grand Master, Jogaila, and Vytautas, reaffirming the Treaty of Sallinwerder, and it also involved the Grand Master agreeing to renounce the Teutonic Order's claim on the strategically important town of Dobrin. Jogaila in particular, was pleased with the Dobrin part of the agreement, and he managed to convince a reluctant Vytautas to agree to the terms of the agreement, which he signed at Ritterswerder in August of 1404. -

Evaluation of the Role of Iran National Museum in the Cultural Tourism in Iran
EVALUATION OF THE ROLE OF IRAN NATIONAL MUSEUM IN THE CULTURAL TOURISM IN IRAN Omid Salek Farokhi Per citar o enllaçar aquest document: Para citar o enlazar este documento: Use this url to cite or link to this publication: http://hdl.handle.net/10803/667713 ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). -

THE SOCIETY for ASIAN ART PRESENTS Through the Pishtaq: Art, Architecture and Culture of Persia APRIL 22 - MAY 9, 2018
THE SOCIETY FOR ASIAN ART PRESENTS Through the Pishtaq: Art, Architecture and Culture of Persia APRIL 22 - MAY 9, 2018 More than five hundred years before Christ, Cyrus the Great founded one of the world’s first empires at Pasargadae. Over the centuries Persian civilization has been impacted by diverse cultural influences from invading Greeks, Arabs, Mongols and Turks. Join Dr. Keelan Overton on a journey through Iran where impressive monuments serve as vivid testament to the extraordinary history and culture of the country. The name Persia, used by the ancient Greeks, is derived from the southwesterly province of Pars which was the cradle of the Persian Empire. It was here that the Achaemenids became the first kings of a united country. They built capitals at Pasargadae and Persepolis and ruled over territory which stretched from the Persian Gulf to the Black Sea and from China in the east to the Mediterranean shores in the west. It is a welcoming and beautiful country of contrasts, of jagged mountains and golden deserts punctuated by slender wind towers, crumbling clay-baked caravansaries, and everywhere a horizon pierced by mosques and turquoise minarets. ----------------------------------Tour Highlights -------------------------------------- Tehran– 3 nights Visit Jameh Atigh, 9th c. Friday Mosque Visit the National Museum of Iran complex: Learn about tribal rugs at a nomadic gallery Museum of Ancient Iran (History and Archaeology) Yasuj - 1 night Museum of the Islamic Era Drive through the beautiful Zagros Mountains to Yasuj -

Roman Hautala, Crusaders, Missionaries, And
independently verify this. As presented, the simple out most to critical readers, and unfortunately cast assertion that pearl acquisition is the only possible a pall on the betterdocumented claims and evi reason a Sogdian might have been traveling in dence that surround them. Oman lacks persuasive power. Without the pri Overall, this is a thoroughly researched book that mary source making explicit that this was the rea is wellwritten and persuasively argued. Although son, the support the example was supposed to lend sometimes the examples provided do not function Allsen’s claim collapses. Examples like this are effectively to support the claims they are linked to, sprinkled throughout the book, and attentive read these instances are rare. This is a book that should ers will no doubt notice them. Most of Allsen’s ex be read and cited by diverse scholars with a wide amples are much stronger, and examples like the variety of interests and disciplinary backgrounds one above are decidedly in the minority. But the for many years to come. weak examples are also the ones that tend to stand Samuel Rumschlag ——— Roman Hautala. Crusaders, Missionaries and pear in the anthology without crossreferencing Eurasian Nomads in the 13th ‐ 14th Centuries: them; it is up to the reader to realize that they are A Century of Interaction. Ed. Victor Spinei. readily available by turning the page. The articles Bucureşti: Editoru Academiei Romăne, Brăila: are organized in two numbered “parts.” In the Editura Istros a Muzueului Brăilei “Carol I” “Table of Contents,” the articles are numbered but 2017. -

Italian Festival Screens Iranian Documentary
Art & Culture April 15, 2021 3 This Day in History Italian Festival Screens (April 15) Today is Thursday; 26th of the Iranian month of Farvardin 1400 solar hijri; corresponding to 2nd of the Islamic month of Ramadhan 1442 lunar hijri; and Iranian Documentary April 15, 2021, of the Christian Gregorian Calendar. 1102 lunar years ago, on this day in 340 AH, the Iranian Arabic literary Produced by Touraj Aslani, figure, lexicographer, and theologian, Abdur-Rahman ibn Ishaq az-Zujaji an- ‘Holy Bread’ tells the story of Nahawandi, passed away in Damascus. He was a student of the celebrated Ibn some cross-border couriers who Durayd, and among his valuable compilations, mention can be made of “Kitab try to make ends meet by smug- al-Izzah” and “al-Jamal”. In his other work, “al-Amali”, he has recorded the gling goods into Iran. statements and maxims of the Commander of the Faithful, Imam Ali ibn Abi The 54-minute doc shows how Taleb (AS). these men put their lives in dan- 740 lunar years ago, on this day in 702 AH, the Battle of Marj as-Saffar took ger by crossing impassable ter- place in Syria between the Mamluks of Egypt led by the Qipchaq Turkic Bahri rains carrying very heavy loads. ruler, Sultan Nasser ad-Din Qalawun, and an army of Mongols and Armenians It took nine years for the late sent by the Iran-based Ilkhanid Emperor, Ghazan Khan, whose general documentarian to make the Qutlugh-Shah suffered a disastrous defeat near Kiswe, south of Damascus. The film. defeat ended Ghazan Khan’s invasions of Syria. -

Arta 2004.004
ARTA 2004.004 Shahrokh Razmjou Center of Achaemenid Studies National Museum of Iran (Tehran) Project Report of the Persepolis Fortification Tablets in the National Museum of Iran 11 Introduction to the Collection During the excavations of Ernst Herzfeld in Persepolis, an ancient archive of clay tablets was discovered at the northeast corner of the platform, which was a part of the Persepolis fortification system. The collection was sent to the Oriental Institute of the University of Chicago for further research. In 1951, after negotiations between the Oriental Institute, the Iranian Embassy in Washington D.C. and André Godard, a part of the collection was sent back to Iran to the Archaeology Office in the then Iran-e Bastan Museum in Tehran. The rest of the collection, apart from 300 tablets returned in April 2004, still resides in Chicago for translation and further research. Achemenet août 2004 1 ARTA 2004.004 The part of the collection that was sent back to Iran included 3 wooden crates, containing 235 small boxes of tablet fragments. They were sent to Iran by ship via the Persian Gulf. The three crates were marked with numbers 1, 2, 3. Their dimensions, as appears from the OI records, were: Crate 1: 33 x 25 x 19.5 inches (83.82 x 63.5 x 49.5 cm) 260 lbs (117.93 kilos) Crate 2: 33 x 25 x 19.5 inches (83.82 x 63.5 x 49.5 cm) 305 lbs (138.34 kilos) Crate 3: 30.5 x 22 x 21.5 inches (77.47 x 55.88 x 54.61) 215 lbs (97.52 kilos) Each of the crates would have been marked on the outside with black ink to André Godard in the Iran-e Bastan Museum with the address: Archaeological Service Musée de Tehran Tehran, Iran Attn.: Mr. -

Nominalia of the Bulgarian Rulers an Essay by Ilia Curto Pelle
Nominalia of the Bulgarian rulers An essay by Ilia Curto Pelle Bulgaria is a country with a rich history, spanning over a millennium and a half. However, most Bulgarians are unaware of their origins. To be honest, the quantity of information involved can be overwhelming, but once someone becomes invested in it, he or she can witness a tale of the rise and fall, steppe khans and Christian emperors, saints and murderers of the three Bulgarian Empires. As delving deep in the history of Bulgaria would take volumes upon volumes of work, in this essay I have tried simply to create a list of all Bulgarian rulers we know about by using different sources. So, let’s get to it. Despite there being many theories for the origin of the Bulgars, the only one that can show a historical document supporting it is the Hunnic one. This document is the Nominalia of the Bulgarian khans, dating back to the 8th or 9th century, which mentions Avitohol/Attila the Hun as the first Bulgarian khan. However, it is not clear when the Bulgars first joined the Hunnic Empire. It is for this reason that all the Hunnic rulers we know about will also be included in this list as khans of the Bulgars. The rulers of the Bulgars and Bulgaria carry the titles of khan, knyaz, emir, elteber, president, and tsar. This list recognizes as rulers those people, who were either crowned as any of the above, were declared as such by the people, despite not having an official coronation, or had any possession of historical Bulgarian lands (in modern day Bulgaria, southern Romania, Serbia, Albania, Macedonia, and northern Greece), while being of royal descent or a part of the royal family. -

Muslim Iurts of Muscovy: Religious Tolerance of the Steppe in the XV-XVI Centuries 1
Muslim Iurts of Muscovy: Religious Tolerance of the Steppe in the XV-XVI Centuries 1 BULAT RAKHIMZYANOV This article is dedicated to the study of a unique phenomenon – the mutual relations between the Muscovite state and Tatar ethnic foundations that existed on its territory during the XV-XVI centuries. Being a part and later a successor of a huge empire of the Golden Horde, 2 Muscovy adopted a number of its political and social institutes. One of the most striking examples in this respect is religious tolerance widespread at Steppe and borrowed by Muscovy. Historians of Muscovy commonly portray the period of the XV-XVI cc. as a time of Russian disengagement and retrenchment, as Muscovite leaders fought to preserve their hard-won sovereignty in the face of continuous Tatar aggression. Such por- trayals are accurate, but only to a certain extent. Throughout this period there were numerous Tatar raids into the Muscovite heartland, and Muscovite forces repeatedly joined the battles against Tatar armies throughout the region. However, the analysis of primary sources clearly demonstrates that in general the description mentioned above is unsatisfactory. The relations between these states were very pragmatic and forcedly-friendly; religious and national antagonism played no significant role in their diplomacy. 3 The examination of Tatars residing in Muscovy in the XV-XVI cc. reveals that in practice religious affiliation was not the sole factor that determined acceptance into Muscovite society. Muslim Tatars, represented at both elite and common levels, were not excluded from Muscovite society, but found positions in it and were treated in a manner similar to that of their Orthodox brethren.