Plants in Monsoon Climate
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Messinian Vegetation and Climate of the Intermontane Florina-Ptolemais
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/848747; this version posted November 25, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC 4.0 International license. 1 Messinian vegetation and climate of the intermontane Florina-Ptolemais-Servia Basin, 2 NW Greece inferred from palaeobotanical data: How well do plant fossils reflect past 3 environments? 4 5 Johannes M. Bouchal1*, Tuncay H. Güner2, Dimitrios Velitzelos3, Evangelos Velitzelos3, 6 Thomas Denk1 7 8 1Swedish Museum of Natural History, Department of Palaeobiology, Box 50007, 10405 9 Stockholm, Sweden 10 2Faculty of Forestry, Department of Forest Botany, Istanbul University Cerrahpaşa, Istanbul, 11 Turkey 12 3National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Geology and Geoenvironment, 13 Section of Historical Geology and Palaeontology, Greece 14 15 16 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/848747; this version posted November 25, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC 4.0 International license. 17 The late Miocene is marked by pronounced environmental changes and the appearance of 18 strong temperature and precipitation seasonality. Although environmental heterogeneity is to 19 be expected during this time, it is challenging to reconstruct palaeoenvironments using plant 20 fossils. We investigated leaves and dispersed spores/pollen from 6.4–6 Ma strata in the 21 intermontane Florina-Ptolemais-Servia Basin (FPS) of NW Greece. -
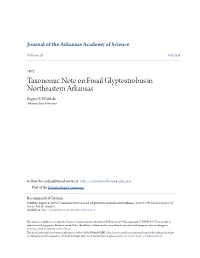
Taxonomic Note on Fossil Glyptostrobus in Northeastern Arkansas Eugene B
Journal of the Arkansas Academy of Science Volume 26 Article 6 1972 Taxonomic Note on Fossil Glyptostrobus in Northeastern Arkansas Eugene B. Whittlake Arkansas State University Follow this and additional works at: http://scholarworks.uark.edu/jaas Part of the Paleobiology Commons Recommended Citation Whittlake, Eugene B. (1972) "Taxonomic Note on Fossil Glyptostrobus in Northeastern Arkansas," Journal of the Arkansas Academy of Science: Vol. 26 , Article 6. Available at: http://scholarworks.uark.edu/jaas/vol26/iss1/6 This article is available for use under the Creative Commons license: Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0). Users are able to read, download, copy, print, distribute, search, link to the full texts of these articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This Article is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UARK. It has been accepted for inclusion in Journal of the Arkansas Academy of Science by an authorized editor of ScholarWorks@UARK. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Journal of the Arkansas Academy of Science, Vol. 26 [1972], Art. 6 Taxonomic Note on Fossil Glyptostrobus in Northeastern Arkansas EUGENE B.WITTLAKE Arkansas State University, State University, Arkansas 72467 ABSTRACT Twopapers by Brown (1936, 1962) are reviewed and discussed in relation to the validity of specific names applied to the fossil Glyptostrobus as found in North American deposits. Evidence ispresented supporting the contention that G. nordenskioldi Brown n. comb, is the valid name for Glyptostrobus specimens from the Hooker site of northeastern Arkansas. -

1145 Akhmetiev.Vp
Paleocene and Eocene floristic and climatic change in Russia and Northern Kazakhstan MIKHAIL A. AKHMETIEV Paleocene and Eocene floras of Russia and adjacent regions are reviewed with an interpretation of climatic conditions under which they developed. Floristic and climatic changes in western and central regions of Russia in the Paleocene and in the first part of the Eocene were caused by the dynamics and rearrangement of the systems of marine seaways: a longi- tudinal seaway, which connected the Arctic basin with the marginal seas of Northern Peri-Tethys (Turanian, South Rus- sian and others), and a latitudinal seaway, which connected the marginal seas of Northern Peri-Tethys with the Atlantic Ocean. As these systems were progressively reduced, the climate in the middle latitudes changed from paratropical (like in West and Central Europe) to a subtropical monsoon climate with wet summers (Late Ypresian to Lutetian), and later to a climate with wet winters (Late Lutetian to the first part of the Priabonian). Floristic changes reflect these climatic trends. In the Paleogene, cold currents constantly influenced the climate of regions of the northwestern Pacific and facili- tated development of a warm-temperate mesophilic flora. A warmer episode took place in the Early Eocene. At this time thermophilic plants (Sabal, Myrtaceae and Lauraceae) reached Koryakia, North Western Kamchatka, probably as a re- sult of northward migration. Some subtropical plants existed near the Recent Polar circle. The subtropical Raichikha-type Flora lost temperate elements and, by ecological and climatic types, it is more similar to the Recent flora of South-West and South China. -

Pliocene Taxodiaceous Fossil Wood from Southwestern Ukraine and Its Palaeoenvironmental Implications
Journal of Palaeogeography 2013, 2(4): 362-368 DOI: 10.3724/SP.J.1261.2013.00036 Biopalaeogeography and palaeoecology Pliocene taxodiaceous fossil wood from southwestern Ukraine and its palaeoenvironmental implications Yi Tiemei1, *, Li Chengsen2, Svetlana Syabryaj3 1. Beijing Institute of Science and Technology Information, Beijing 100048, China 2. Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China 3. Institute of Geological Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev 01601, Ukraine Abstract Mineralized wood collected from Late Pliocene strata near Gorbki village in the Transcarpathian region of Beregovo Kholmogor’e in southwestern Ukraine was anatomically studied and identified. The wood possesses distinctive anatomical features and has distinct growth rings with an abrupt transition from early- to late-wood. Wood consists of tracheids with 1-3 seriate, dominating bi-seriate, opposite pits on the radial walls and taxodioid cross- field pitting, indentures present. Rays are uni-seriate and 1 to 73 cells high. Ray parenchyma horizontal walls thin and smooth. Axial parenchyma distributed in early- and late-wood and is solitary and diffuse, with end walls nearly smooth or slightly nodular. The combination of fea- tures observed in the wood indicates it belongs to the conifer family Taxodiaceae and is most similar to modern Sequoia and assigned to the fossil genus Sequoioxylon. Comparison with species of Sequoioxylon show it is most similar to Sequoioxylon burejense, but ray tracheids were not found in our specimens. We describe the specimens here as Sequoioxylon cf. s. burejense noting this similarity. Extant Sequoia is distributed in the northern California coastal forest eco-region of northern California and southern Oregon in the United States where they usually grow in a unique environment with heavy seasonal precipitation (2500 mm annually), cool coastal air and fog drip. -

GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE the Miocene Flora of Parschlug
©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at Ann. Naturhist. Mus. Wien 105 A 45–159 Wien, Februar 2004 GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE The Miocene Flora of Parschlug (Styria, Austria) – Revision and Synthesis By Johanna KOVAR-EDER1, Zlatko KVACEK2 & Margit STRÖBITZER-HERMANN3 (With 5 figures, 11 tables and 15 plates) Manuscript submitted on 23 October 2002, the revised manuscript on 21 January 2003 Abstract The first monographic treatment of the famous fossil flora of Parschlug (Styria, Austria) is presented. It com- prises more than 60 plant species including 4 ferns, 5 conifers, and over 50 angiosperms. Described for the first time are Ulmus parschlugiana and Antholithes stiriacus. Newly combined are Berberis teutonica, B. (?) ambigua, Mahonia (?) aspera, Ternstroemites pereger, Cedrelospermum ulmifolium, Leguminosites hesperidum, L. dionysi, L. palaeogaeus, L. parschlugianus, Prinsepia serra, Cotinus (?) aizoon, and Ailanthus pythii. Diversified mesophytic elements prevail over a few dominant or common azonal woody taxa. Among the for- mer, humid temperate components are relatively scarce and humid subtropical ones are rare, while subhumid, physiognomically sclerophyllous woody taxa are well represented. The age is considered as Karpatian/Early Badenian (late Early/early Middle Miocene) based on the floristic composition. Climatically this association indicates a drier warm-temperate/subtropical regime than documented from earlier and later Miocene times. Keywords: Macroflora, palaeoecology, palaeoclimate, floristic comparison, Miocene, Norian depression, Austria. Zusammenfassung Erstmals wird die Flora von Parschlug (Steiermark, Österreich) monographisch erfasst. Sie enthält mehr als 60 Pflanzenarten, davon 4 Farne, 5 Koniferen und mehr als 50 Angiospermen. Ulmus parschlugiana and Antholithes stiriacus werden erstmals beschrieben. Neu kombiniert werden Berberis teutonica, B. (?) ambigua, Mahonia (?) aspera, Ternstroemites pereger, Cedrelospermum ulmifolium, Leguminosites hesperidum, L. -

Mitteilungen Des Naturwissenschaftlichen Vereines Für Steiermark
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark Jahr/Year: 1870 Band/Volume: 7 Autor(en)/Author(s): Unger Franz Joseph Andreas Nicolaus Artikel/Article: Geologie der europäischen Waldbäume. 125-187 xi b h a 11 d 1 u u ö' e ü. Greolog;ie der ©xi.ro:i3Ä,lsoli©33L (F o r t s e t z u n g.) Von Dr. F. U n g e r. Mit Tafel 111 u. IV. Unter den Waldbäumen Europas spielen die Nadelhölzer keine untergeordnete KoUe, obgleich sie ihrer Mannigfaltigkeit nach ge- genüber den Laubhölzern im Schatten stehen. Was ihnen aber in dieser Beziehung abgeht, ersetzen sie durch die Reichhaltigkeit ihrer Individuen und durch ihr Zusammenleben in geschlossenen Beständen. Auf diese Weise gehen die Nadelhölzer als waldbrin- gende Bäume allen übrigen voran , denn eine Verbreitung , wie sie z. B. die Föhre (Pinus silvestris L.) und die Fichte (Picea excelsa Lk.) in ununterbrochener Ausdehnung über grosse Länderstreckeu zeigen, besitzt kein einziger europäischer Laubholzbaum. Im Ganzen bilden die Coniferen eine sehr umfangreiche und vielfach gegliederte Abtheilung des Gewächsreiches , der man mehr die Bezeichnung einer Classe als die einer Familie beilegen kann, von denen freilich nur ein kleiner Theil auf Europa fällt, die grö- sere Zahl aber auf der ganzen Erde zerstreut wächst, weder die Tropen meidet, noch sich selbst von den äussersten Grenzen des vegetabilischen Lebens ferne hält. Gewöhnlich zerfällt -

PALAEOGENE and NEOGENE LOCALITIES in the NORTH HUNGARIAN MOUNTAIN RANGE INTRODUCTION a Post-Congress Field Trip of the 8Th Europ
Studia bot. hung. 42, pp. 153–183, 2011 PALAEOGENE AND NEOGENE LOCALITIES IN THE NORTH HUNGARIAN MOUNTAIN RANGE B. ERDEI1, L. HABLY1, I. SELMECZI2 and L. KORDOS2 1Department of Botany, Hungarian Natural History Museum, H–1476 Budapest, Pf. 222, Hungary; [email protected] 2Geological Institute of Hungary, H–1143 Budapest, Stefánia út 14, Hungary Selected Palaeogene and Neogene fossil plant localities in the North Hungarian Mountain Range, introduced to participants of the 8th European Palaeobotany-Palynology Confe- rence in Budapest, 2010, are presented here with site descriptions and data on the fossil plant record. Key words: EPPC, fossil plant, Hungary, Neogene, Palaeogene, post-congress field trip guide INTRODUCTION A post-congress field trip of the 8th European Palaeobotany-Palynology Conference (EPPC 2010, 6–10 July, 2010, Budapest, Hungary) introduced several Palaeogene and Neogene fossil plant localities in the North Hunga- rian Mountain Range, i.e. the Visonta opencast lignite mine, and sites at Ipolytarnóc, the Eger-Kiseged roadcut, Rudabánya, and Erdõbénye. The field trip guide presented here intends to aggregate both published and un- published data on the fossil plant record at the localities. SITE DESCRIPTIONS Geology The Pannonian stage (standard chronostratigraphy: Tortonian/Messinian) compri- ses one of the thickest non-marine late Neogene sedimentary sequences in Europe (RASSER and HARZHAUSER 2008). This sequence was deposited in the Pannonian Basin during the Late Miocene and Pliocene, following the cessation of intermittent marine connections of Studia Botanica Hungarica, 42, 2011 Hungarian Natural History Museum, Budapest 154 ERDEI, B., HABLY, L., SELMECZI, I. and KORDOS, L. the basin towards the Mediterranean in the Middle Miocene (POPOV et al. -
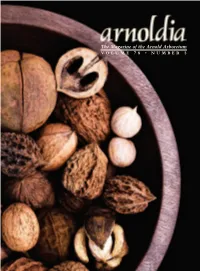
Current Issue of Arnoldia
The Magazine of the Arnold Arboretum VOLUME 78 • NUMBER 3 The Magazine of the Arnold Arboretum VOLUME 78 • NUMBER 3 • 2021 CONTENTS Arnoldia (ISSN 0004–2633; USPS 866–100) 2 Building a Comprehensive Plant Collection is published quarterly by the Arnold Arboretum Jeffrey D. Carstens of Harvard University. Periodicals postage paid at Boston, Massachusetts. 5 A Conservation SOS: Polygonum hickmanii Holly Forbes Annual subscriptions are $20.00 domestic or $25.00 international, payable in U.S. dollars. 7 An Unusual Autumn at the Dana Greenhouses Subscribe and purchase back issues online at Tiffany Enzenbacher https://arboretum.harvard.edu/arnoldia/ or send orders, remittances, change-of-address notices, 10 A Brief History of Juglandaceae and all other subscription-related communica- Jonas Frei tions to Circulation Manager, Arnoldia, Arnold Arboretum, 125 Arborway, Boston, MA 02130- 18 Discovering the Majestic Mai Hing Sam of Laos 3500. Telephone 617.524.1718; fax 617.524.1418; Gretchen C. Coffman e-mail [email protected] 28 Backyard Climate Solutions Arnold Arboretum members receive a subscrip- Edward K. Faison tion to Arnoldia as a membership benefit. To become a member or receive more information, 38 A New Look at Boston Common Trees please call Wendy Krauss at 617.384.5766 or Kelsey Allen and W. Wyatt Oswald email [email protected] 42 Case of the Anthropocene Postmaster: Send address changes to Jonathan Damery Arnoldia Circulation Manager 44 Planting Edo: Pinus thunbergii The Arnold Arboretum Rachel Saunders 125 Arborway Boston, MA 02130–3500 Front and back cover: Jonas Frei’s collection of walnut family fruits includes a disc-shaped wheel wingnut (Cyc- Jonathan Damery, Editor locarya paliurus, back cover) among other more familiar- David Hakas, Editorial Intern Andy Winther, Designer looking species. -

Vegetation Dynamics in Europe During the Neogene
Johanna Kovar-Eder Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart Vegetation dynamics in Europe during the Neogene Kovar-Eder, J., 2003 - Vegetation dynamics in Europe during the Neogene - in: Reumer, J.W.F. & Wessels, W. (eds.) - DISTRIBUTION AND MIGRATION OF TERTIARY MAMMALS IN EURASIA. A VOLUME IN HONOUR OF HANS DE BRUIJN - DEINSEA 10: 373-392 [ISSN 0923-9308] Published 1 December 2003 Based on the leaf, seed-fruit, and pollen record, the main trends of vegetational evolution in South and Central Europe are outlined. Paleoclimatic parameters are inferred partly from the comparis- on of the fossil assemblages with modern vegetation units and their climatic requirements and part- ly by summarizing the available data from the literature. Correspondence: J. Kovar-Eder, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Rosenstein 1, D- 70191 Stuttgart, Germany; email: [email protected] Keywords: Europe, Neogene, vegetation history INTRODUCTION ly restricted to only one of the plant organs In Europe, the Neogene is characterized by (leaf or seed-fruit or pollen assemblages, paleogeographic reorganization due to the respectively). As different plant organ assem- collision of the African with the Eurasian blages are bound to specific taphonomic con- plate. Orogenic belts evolved in central and ditions, the derived interpretations may diver- southern regions and large foredeep basins ge considerably. Although the different plant and wetland areas extended along the arising organs often co-occur, they are only rarely orogenes. Altitudinal vegetation zonations evaluated jointly. In such cases, they offer a successively developed in the new orogenes, detailed and complementary rather than con- and increasing altitudinal differences ultima- tradictory picture of the vegetation (e.g. -

Quantifying Seasonal Precipitation Using High-Resolution Carbon Isotope Analyses in Evergreen Wood
Available online at www.sciencedirect.com Geochimica et Cosmochimica Acta 75 (2011) 7291–7303 www.elsevier.com/locate/gca Quantifying seasonal precipitation using high-resolution carbon isotope analyses in evergreen wood Brian A. Schubert ⇑, A. Hope Jahren Department of Geology and Geophysics, University of Hawaii, Honolulu,HI 96822, USA Received 8 March 2011; accepted in revised form 1 August 2011; available online 6 August 2011 Abstract High-resolution natural abundance stable carbon isotope analyses across annual growth rings in evergreen trees reveal a cyclic increase and decrease in the measured carbon isotopic composition (d13C), but the causes of this pattern are poorly understood. We compiled new and published high-resolution d13C data from across annual growth rings of 33 modern ever- green trees from 10 genera and 15 globally distributed sites to quantify the parameters that affect the observed d13C pattern. Across a broad range of latitude, temperature, and precipitation regimes, we found that the average, measured seasonal 13 13 change in d C(Dd Cmeas, &) within tree rings of evergreen species reflects changes in the carbon isotopic composition of 13 atmospheric carbon dioxide (Dd CCO2) and changes in seasonal precipitation (DP) according to the following equation: 13 13 2 Dd Cmeas = Dd CCO2 – 0.82(DP) + 0.73; R = 0.96. Seasonal changes in temperature, pCO2, and light levels were not found 13 to significantly affect Dd Cmeas. We propose that this relationship can be used to quantify seasonal patterns in paleoprecip- itation from intra-ring profiles of d13C measured from non-permineralized, fossil wood. Ó 2011 Elsevier Ltd. -
Die Verbreitung Der Coniferen in Der Jetztzeit Und in Den Früheren Geologischen Periodenflorian Hildebrand
Die Verbreitung der Coniferen jn der Jetztzeit und in den früheren geologischen Perioden von Dr. F. üildeb rau d. Schon hatte ich angefangen das Material zu der folgen den Darstellung zu sammeln, als mir die Abhandlung von Th. Beinling: „Ueber die geographische Verbreitung der Coniferen* zu Gesichte kam; da ich aber die Absicht hatte auch die fossilen Arten mit in den Kreis der Betrach tung zu ziehen und ausserdem fand, dass sich manches ein gehender darstellen liess, als es in dem genannten Werke geschehen war, so verblieb ich bei meinem Vorsatz. Es wird nicht weiter nöthig sein auf das Interesse näher einzugehen, welches die Familie der Coniferen bietet, nur so viel sei bemerkt, dass sie eine derjenigen Familien ist, die bei dem jetzigen Stande der Kenntniss von den Floren der verschiedenen Länder, am ersten die Möglichkeit zu einer genaueren Darstellung ihrer Verbreitung bietet; ich sage nur „am ersten“ denn es bleiben auch bei den Coni feren noch sehr viele Arten in den genaueren Verhältnissen ihrer Verbreitung unbekannt. Vielleicht wird es auffallen, dass die angegebenen Zah len der Coniferen kleiner sind, als die von Gordon, C a r r i e r e und Beinling angeführten; es rührt dies eines- theils daher, dass die ganz unsicheren Arten nicht mitge zählt sind, anderntheils sind viele Arten mit anderen als synonym zusammengestellt worden, — das letztere wird vielleicht von mehreren Seiten nicht gebilligt werden, und es ist daher an den meisten Orten, um die geographische Verbreitung zweier vielleicht doch verschiedener Arten nicht zur Unkenntlichkeit zu verschmelzen, die Verbrei tung der einzelnen Synonymen für sich angegeben. -

Central Anatolia, Turkey): a Window Into Early Neogene Vegetation and Environments in the Eastern Mediterranean
Acta Palaeobotanica 57(2): 237–338, 2017 e-ISSN 2082-0259 DOI: 10.1515/acpa-2017-0011 ISSN 0001-6594 The early Miocene flora of Güvem (Central Anatolia, Turkey): a window into early Neogene vegetation and environments in the Eastern Mediterranean THOMAS DENK 1, TUNCAY H. GÜNER 2, ZLATKO KVAČEK 3 and JOHANNES M. BOUCHAL1,4 1 Department of Palaeobiology, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden; e-mail: [email protected] 2 Department of Forest Botany, Faculty of Forestry, Istanbul University, Istanbul, Turkey; e-mail: [email protected] 3 Institute of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic; e-mail: [email protected] 4 Department of Palaeontology, University of Vienna, Vienna, Austria; e-mail: [email protected] Received 14 June 2017; accepted for publication 24 October 2017 ABSTRACT. The early Burdigalian (MN3) plant assemblage of the Güvem area (northwestern Central Anatolia) is preserved in lacustrine sediments of the Dereköy pyroclastics. Its age is well constrained by radiometric dates of basaltic rocks bracketing the pyroclastics, making the Güvem flora one of the extremely few precisely dated early Miocene floras in the Mediterranean region. The rich assemblage of impression fossils comprises ferns and fern allies (2 species), gymnosperms (12 spp.) and angiosperms (129 spp.). Ilex miodipyrena sp. nov. is described as a new fossil-species. The most diverse families in the assemblage are the Fagaceae with 12 taxa and the Fabaceae with 12 leaf morphotypes and one fruit taxon. Aquatic plants are represented by seven taxa, riparian (including palms) and swamp forest elements by >35 taxa, and lianas by three taxa (Smilax spp., Chaneya).