ЖУРНАЛ Vestnik.Is Vestnik.Is Ww W
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

European Science Review
European science review № 11–12 2014 November-December «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH Vienna 2014 European Sciences review Scientific journal № 11–12 2014 (November-December) ISSN 2310-5577 Editor-in-chief Lucas Koenig, Austria Consulting editors Uwe Eisenberg, Austria Minik Olsen, Sweden International editorial board Melinda Boros, Hungary Miroslavka Murkovič, Slovenia Jana Ilyna, Russia Wu Pan, China Dragan Novak, Croatia Bondarenko Natalia, Russia Dirk Eggers, Germany Yashkova Tatiana, Russia Proofreading Kristin Theissen Cover design Andreas Vogel Additional design Stephan Friedman Editorial office European Science Review “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Am Gestade 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected] Homepage: www.ew-a.org European Science Review is an international, German/English/Russian language, peer-reviewed journal. It is published bimonthly with circulation of 1000 copies. The decisive criterion for accepting a manuscript for publication is scientific quality. All research articles published in this jour- nal have undergone a rigorous peer review. Based on initial screening by the editors, each paper is anonymized and reviewed by at least two anonymous referees. Recommending the articles for publishing, the reviewers confirm that in their opinion the submitted article contains important or new scientific results. Instructions for authors Full instructions for manuscript preparation and submission can be found through the “East West” Association GmbH home page at: http://www.ew-a.org. Material disclaimer The opinions expressed in the conference proceedings do not necessarily reflect those of the «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, the editor, the editorial board, or the organization to which the authors are affiliated. -
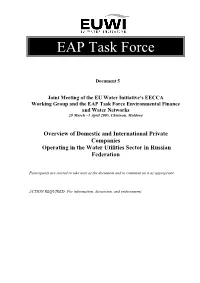
EAP Task Force
EAP Task Force Document 5 Joint Meeting of the EU Water Initiative’s EECCA Working Group and the EAP Task Force Environmental Finance and Water Networks 29 March –1 April 2005, Chisinau, Moldova Overview of Domestic and International Private Companies Operating in the Water Utilities Sector in Russian Federation Participants are invited to take note of the document and to comment on it as appropriate. ACTION REQUIRED: For information, discussion, and endorsement. TABLE OF CONTENT: USED ABBREVIATIONS AND ACRONYMS..................................................................3 PREFACE........................................................................................................................4 ANALYTICAL SUMMARY...............................................................................................6 CHAPTER 1. GENERAL INFORMATION ABOUT DOMESTIC AND INTERNATIONAL PRIVATE COMPANIES OPERATING IN UTILITIES SECTOR IN RUSSIA..................................19 CHAPTER 2. EXPERIENCE OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL PRIVATE COMPANIES IN IMPLEMENTING SPECIFIC PROJECTS......................................................................28 RUSSIAN UTILITY SYSTEMS....................................................................................................................29 ROSVODOKANAL......................................................................................................................................33 NEW URBAN INFRASTRUCTURE OF PRIKAMYE..................................................................................36 -

A N N E X E S
13255/07 Georgia v. Russia (I) A N N E X E S Annex 1 Summary of documents submitted by the applicant Government I. In their application of 27 March 2007 A. Summary of documents in English and Russian C. Summary of statements of Georgian citizens B. + D. Summary of media coverage of events II. In their observations in reply of 5 May 2008 Summary of documents in Georgian / Russian Annex 2 Summary of documents submitted by the respondent Government I. In their observations of 26 December 2007 . Summary of documents in Russian II. In their additional observations of 23 September 2008 . Summary of documents in Russian Annex 3 Report of 22 January 2007 by the monitoring committee of the Parliamentary Assembly 1 13255/07 Georgia v. Russia (I) Annex 1 I. A. Summary of the documents in English and Russian submitted by the applicant Government in their application of 27 March 2008 number Document type date 1 Summary/Translation The applicant Government submitted the Agreement between Georgia and Russia on the Terms and Rules of the temporary functioning and withdrawal of Russian Military Bases and other military facilities belonging to the Group of Russian Military Forces in Transcaucasia deployed on the Territory of Georgia. The Agreement was drawn up in Russian and Georgian and signed by both parties in Sochi, Russian Federation, on 31 March 2006. number Document type date 2 A. Council of Europe press release 6 October 2006; B. Council of the European Union press release 16-17 October 2006; C. Speech by Ms Benita Ferrero-Waldner, member 25 October 2006 of the European Commission with responsibility for and 6 March 2007 External Relations and European Neighbourhood Policy D. -

Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast
THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES OF RAS ECONOMIC AND SOCIAL CHANGES: FACTS, TRENDS, FORECAST 6 (24) 2012 The journal is published according to the decision of RAS economic institutions’ administration in the North-West federal district Institute of Socio-Economic and Energy Problems of the North Komi scientific centre of the Ural RAS department (Komi Republic) Institute of Economics of Karelian scientific centre of RAS (Karelia Republic) G.P. Luzin Institute of Economic Problems of Kola scientific centre of RAS (the Murmansk Oblast) Institute of Socio-Economic Development of Territories of RAS (the Vologda Oblast) and according to the decision of St. Petersburg State University of Engineering and Economics administration and other RF regions Institute of Social and Economic Research of Ufa Science Centre of RAS (Bashkortostan Republic) Institute of Economics, the Research of the Ural RAS department (the Sverdlovsk Oblast) The decision of Presidium of the Higher Attestation Commission of the Russian MES (№6/6, dated 19.02.2010) the journal is included in the list of leading scientific editions, recommended for publication of the main results of dissertations for the degree of Doctor and Candidate of Sciences. Editorial council: RAS academician V.L. Makarov (Moscow, Russia) RAS academician V.V. Ivanter (Moscow, Russia) RAS academician V.V. Okrepilov (St. Petersburg, Russia) RAS academician A.I. Tatarkin (Yekaterinburg, Russia) Belarus NAS academician P.A. Vityaz (Minsk, Belarus) Belarus NAS academician P.G. Nikitenko (Minsk, Belarus) RAS corresponding member V.N. Lazhentsev (Syktyvkar, Russia) Professor J. Sapir (Paris, France) Doctor of Economics, professor S.D. -

Municipal Administration: the Main Components of Model and Its Development in Russia
Review of European Studies; Vol. 6, No. 4; 2014 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of Science and Education “Service” Municipal Administration: The Main Components of Model and Its Development in Russia Svetlana Eduardovna Martynova1 1 Department, Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation Correspondence: Svetlana Eduardovna Martynova, Tomsk State University, 36 Lenin Ave., Tomsk 634050, Russian Federation. Tel: 8-913-825-1703. E-mail: [email protected] Received: September 18, 2014 Accepted: November 7, 2014 Online Published: November 15, 2014 doi:10.5539/res.v6n4p223 URL: http://dx.doi.org/10.5539/res.v6n4p223 Abstract Implementation of the “public service” model is possible if its components are thoroughly thought-out: purpose and functions of governing boards are definite, conditions for achieving the desired result are set, and initial condition of public management system allows the development. In the modern literature the role of local government is reduced to the execution of policy of the central government. The authors see the development of public services primarily in economic and organizational aspects. The purpose of this article is to identify the major elements of the integrated model of “public service” as a model of a new relationship between municipal authority and local community, as well as to analyze the current state of municipal administration in Russia. The analysis of scientific publications, the content analysis of sites of the Russian municipalities and the opinion poll of municipal employees were used as the main methods of research. The following article: 1) defines a set of basic elements of the “service” model for municipal administration; 2) describes the gap between the “model” and the current state of “service” municipal administration in Russia; 3) suggests social technologies for the approximation of municipal administration to the desirable state. -

Collection of Reports on Situation with Human Rights in the Russian Federation in 2015 2
Collection of Reports on Situation with Human Rights in the Russian Federation in 2015 2 Contents Article20 3 page Freedom of assembly and freedom of associations January-June 2015 in figures Golos 7 page Final ‘Golos’ Statement on Citizen Observation of Elections held on Single Voting Day, September 13, 2015 15 page Analytical Report Memorial 33 page Politically-motivated criminal prosecutions and political pris- oners in the Russian Federation. September 2015 41 page List of people recognised as political prisoners by the Memorial Human Rights Centre on September 15, 2015 SOVA 57 page Brief Review of Xenophobia, Freedom of Religion and Inappropriate Use of Anti-Extremist Legislation in Russia from January 2014 to August 2015 The Public Verdict Foundation 73 page Crackdown on civil society in Russia Collection of Reports on Situation with Human Rights in the Russian Federation in 2015 3 Article20 E-mail: [email protected] News and publications: http://www.article20.org/ Freedom of assembly and freedom of associations January-June 2015 in figures Freedom of assembly for the first half of 2015 The right to peaceful demonstrations is violated in 2015. Thus, the number of days of administrative arrests for actions (including agreed actions, one-man pickets, performances) is not less than 368 days. As well as 2 months of house arrest for “repeated violations” of the legislation on public meetings. So in Galperin’s case “previous violations” in February, March and June 2014 were counted – before the article about the repeated violations started to act. In addition, Ionov and Galperin are accused, among other things, in holding pickets, which, in accordance with Russian law, do not require concordance, what means that there can be no question of a violation of the rules of concordance. -

New Opportunities for the Development of the Tourism Industry in Russian Municipalities
NEW OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN RUSSIAN MUNICIPALITIES AUTHORSHIP INTRODUCTION Elena Viktorovna Frolova The development of the tourism industry in Faculty of Management, Russian State Social University, Moscow, Russia. modern conditions is one of the priority directions of state policy. Both regional and ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8958-4561 E-mail: [email protected] local authorities focus on it. Modern tourism, being an accelerator for economic Elena Evgenevna Kabanova development, increases employment level, Faculty of Management, Russian State Social University, Moscow, Russia. upgrades infrastructure, reinforces small and ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9983-8158 medium-sized businesses, and improves E-mail: [email protected] foreign exchange earnings (SRIHADI et al., Ekaterina Aleksandrovna Vetrova 2016, p. 32). In 2017, tourism became the Faculty of Management, Russian State Social University, Moscow, Russia. fastest growing economic sector all over the world; the growth rates of the tourism industry ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7793-1888 E-mail: [email protected] were higher than the rates of the industrial Olga Vladimirovna Rogach sector (4.2%), the distributive trade sector (3.4%), the agricultural, forestry, and fishery Faculty of Management, Russian State Social University, Moscow, Russia. sector (2.6%) (WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL, 2017). Tourism contributes to the ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3031-4575 E-mail: [email protected] development of other sectors of the national Received in: Approved in: economy and, therefore, launches a multiplier 2021-03-10 2021-06-10 DOI:https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-D1087p.208-217 effect. -

Collection of Reports on Situation with Human Rights in the Russian Federation in 2015 2
Collection of Reports on Situation with Human Rights in the Russian Federation in 2015 2 Contents Article20 3 page Freedom of assembly and freedom of associations January-June 2015 in figures Golos 7 page Final ‘Golos’ Statement on Citizen Observation of Elections held on Single Voting Day, September 13, 2015 15 page Analytical Report Memorial 33 page Politically-motivated criminal prosecutions and political pris- oners in the Russian Federation. September 2015 41 page List of people recognised as political prisoners by the Memorial Human Rights Centre on September 15, 2015 SOVA 57 page Brief Review of Xenophobia, Freedom of Religion and Inappropriate Use of Anti-Extremist Legislation in Russia from January 2014 to August 2015 The Public Verdict Foundation 73 page Crackdown on civil society in Russia Collection of Reports on Situation with Human Rights in the Russian Federation in 2015 3 Article20 E-mail: [email protected] News and publications: http://www.article20.org/ Freedom of assembly and freedom of associations January-June 2015 in figures Freedom of assembly for the first half of 2015 The right to peaceful demonstrations is violated in 2015. Thus, the number of days of administrative arrests for actions (including agreed actions, one-man pickets, performances) is not less than 368 days. As well as 2 months of house arrest for “repeated violations” of the legislation on public meetings. So in Galperin’s case “previous violations” in February, March and June 2014 were counted – before the article about the repeated violations started to act. In addition, Ionov and Galperin are accused, among other things, in holding pickets, which, in accordance with Russian law, do not require concordance, what means that there can be no question of a violation of the rules of concordance. -

Organizational Design of Welfare
Central European University Department of Political Science ORGANIZATIONAL DESIGN OF WELFARE-ENHANCING PUBLIC BUREAUCRACY: A Comparative Analysis of Russia’s Regions by Marina Nistotskaya Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Supervisor: Tamás Meszerics Committee: Gary J. Miller, Washington University in St. Louis (USA) Jan-Hinrik Meyer-Sahling, University of Nottingham (UK) CEU eTD Collection Levente Littvay, Central European University (Hungary) Budapest 2009 I hereby declare that this work contains no materials accepted for any other degrees in any other institutions. This thesis contains no materials previously written and/or published by another person, unless otherwise noted. CEU eTD Collection ii Abstract The question ‘What type of bureaucracy is most likely to enable sustainable prosperity for all members of a society?’ is a classical puzzle in the field of political science. This thesis investigates this research question both theoretically and empirically. It draws on Gary Miller’s (2000) theory of interactive social production, which advocates the welfare- enhancing properties of a de-politicized bureaucracy (or civil service), and develops it further by showing the capacity of individual elements of civil service to contain politicians’ moral hazard. This theoretical argument is then investigated within the empirical milieu of regional governance of post-Soviet Russia. Having revisited Meyer-Sahling’s analytical framework of formal political discretion (2003, 2006), the thesis employs the improved framework to systematically assess the provisions of Russia’s two major Civil Service Acts of 1995 and 2004. This analysis shows that, from a legalistic point of view, Russia’s personnel policy regime can be characterized as largely de-politicized. -

Third International Conference on Public Policy (ICPP3) June 28-30, 2017 – Singapore the Panel “Innovation, Governance and Reform: Lessons from the Developing World”
Third International Conference on Public Policy (ICPP3) June 28-30, 2017 – Singapore The panel “Innovation, Governance and Reform: Lessons from the Developing World” Ensure citizen-oriented data for ‘co-production’ of public policy: Russian case of ‘budget for citizens’ Leonid Smorgunov St. Petersburg State University Universitetskaya nab., 7/9, St. Petersburg, 199034, Russia 7 812 2747308 [email protected] DRAFT Abstract. The practice of citizens‟ involvement in the process of formation, monitoring and evaluation of performance of the public budget has become one of the most important forms of cooperation of citizens and government. Of particular importance is acquiring in a digital form of government where the public use of data creates a solid platform for the modern type of "co-production" of public budgets. The concept of „co-production‟ has become widely used in the study of public policy in general. Compared with the categories of "collaboration", "public involvement" this concept has expanded understanding of the cycle of public policies affecting the problem of political designs, governance of public policies, the joint formulation and implementation of public values. Modern budgeting based on cooperation transforms designs of budgetary policy, accountability systems, processes of identifying public values and others. Ensure citizen-oriented data relating to the budget gets particular importance and shared learning of citizens and government for inclusive budget process becomes main requisite for successful collaboration. There is the difference in using „co-production‟ between democratic and mixed political regimes with statist direction. Co-production is a new stance for democratic public policy, but in statist regimes with weak civil society co-production can be used more instrumentally for legitimizing political regimes. -
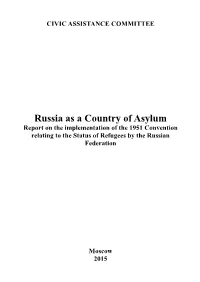
Russia As a Country of Asylum Report on the Implementation of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees by the Russian Federation
CIVIC ASSISTANCE COMMITTEE Russia as a Country of Asylum Report on the implementation of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees by the Russian Federation Moscow 2015 The report was prepared by the Civic Assistance Committee. On 20 April 2015 the Russian Federation Ministry of Justice registered the Civic Assistance Committee as an organisation fulfilling the function of a foreign agent. The report was published from the funds of the grant provided to the Civic Assistance Committee by the All-Russian Movement “Civil Dignity” under contract No 268/2014/1 of 1 August 2014 and in accordance with the Instruction of the Russian Federation President of 17 January 2014 11-rp. Authors: E. Yu. Burtina, E.Yu. Korosteleva, V.I. Simonov FOR FREE DISTRIBUTION TABLE OF CONTENTS Introduction Clarification on terminology used CHAPTER 1. THE 1951 CONVENTION AND RUSSIAN LEGISLATION 1.1. 1951 Convention rules that are implemented in the Law On Refugees 1.2. Norms of 1951 Convention that correspond to Russian legislation 1.3. Convention norms that do not have an equivalent in Russian legislation 1.4. Correlation between the Convention and other provisions of the Law On Refugees 1.5. Positive provisions of the Law On Refugees, that do not have an equivalent in the 1951 Convention. CHAPTER 2. ACCESS TO ASYLUM PROCEDURE 2.1. Information for persons arriving in Russia seeking asylum. 2.2. Access to asylum procedure at the territorial bodies of the Russian FMS 2.3. Access to the asylum procedure from detention facilities 2.4. Access to the procedure of asylum application at a border checkpoint 2.5. -

CDSP-ICT) Cooperative Agreement No
Final Report to USAID for the COMMUNITY DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAM BASED ON INFORMATIVE-COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES (CDSP-ICT) Cooperative Agreement No. AID-118-A-11-00015 April 1, 2011 - May 31, 2013 FUND FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (FSD) May 31, 2013 CONTACT: Oleg Fokin Executive director Fund for Sustainable Develoment 10 Olympiisky pospect , building1-2 Office VII Moscow, 129000 Russia t. +7-495-688-1653 [email protected] http://www.fund-sd.ru/ http://municipal-sd.ru/ http://fsdejournal.ru/ MOSCOW, 2013 FUND FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (FSD) FINAL REPORT COMMUNITY DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT BASED ON ICT (CDSP-ICT) CA AID 118-A-11-00015 MAY 31, 2013 ______________________________________________________________________________________________________________ Contents 1. Introduction 3 2. Achievements and highlights 5 3. CDSP-ICT Program Goals and Design 5 3.1. Program Goals 5 3.2. Management Principles 6 3.3. Program Design 7 4. CDSP-ICT Grantees Review 11 5. Partner Regional Centers 13 6. Performance and Monitoring Plan in CDSP-ICT Program 15 7. Information Dissemination Tools 18 8. FSD Institutional Building 19 9. Challenges and Lessons Learned 22 10. CDSP-ICT Program Obstacles 24 11. Gender Issues 24 Abbreviations 27 List of Attachments in a separate box of documents & Internet references 28 2 FUND FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (FSD) FINAL REPORT COMMUNITY DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT BASED ON ICT (CDSP-ICT) CA AID 118-A-11-00015 MAY 31, 2013 ______________________________________________________________________________________________________________ 1. Introduction. The Fund for Sustainable Development (FSD) is an independent, nongovernmental, non- profit Russian foundation that was created in April 2005 with financial and technical support from the Agency for International Development (USAID) and by the staff of the Russian Representative Office of the Institute for Sustainable Communities (ISC).