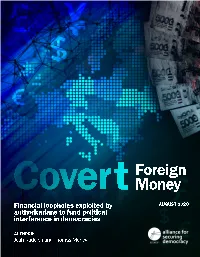RUSSIAN JEWRY ABROAD. Vol. 17
LET US BUILD THE WALL
OF JERUSALEM
JEWS FROM RUSSIA IN PALESTINE/ISRAEL
Book 3
Compiled and edited by
Yulia SISTER
Editorial Board:
Konstantin Kikoin, Lena Dragicky, Dan Haruv
Jerusalem, 2008
РУССКОЕ ЕВРЕЙСТВО В ЗАРУБЕЖЬЕ. ТОМ 17
ИДЕМТЕ ЖЕ ОТСТРОИМ СТЕНЫ ЙЕРУШАЛАИМА
ЕВРЕИ ИЗ РОССИЙСкОЙ
ИМпЕРИИ, СССР/СНГ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ
И ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ
книга 3
Редактор-составитель
Юлия Систер
Редакционный совет:
Константин Кикоин, Лена Драгицкая, Дан Харув
Иерусалим, 2008
Научно-исследовательский центр
РУССКОЕ ЕВРЕЙСТВО В ЗАРУБЕЖЬЕ
Научный руководитель и главный редактор Михаил Пархомовский
Том 17
ИДЕМТЕ ЖЕ ОТСТРОИМ СТЕНЫ ЙЕРУШАЛАИМА
ЕВРЕИ ИЗ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СССР/СНГ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ И ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ
Книга 3
Иерусалим, 2008
Редактор-составитель:
Юлия Систер
Редакционный совет:
Константин Кикоин, Лена Драгицкая, Дан Харув
Издано при участии Министерства абсорбции Израиля
© НИ центр Русское еврейство в зарубежье
© Авторы статей
Research Centre for RUSSIAN JEWRY ABROAD Direction for Scholarly Works Mikhail Parkhomovsky
Volum 17
LET US BUILD THE WALL OF JERUSALEM RUSSIAN JEWS IN PALESTINE/ISRAEL
Book 3
Jerusalem, 2008
Compiled and edited by
Y u lia Sister
Editorial Board: Konstantin Kikoin, Lena Dragicky, Dan Haruv
ISBN 965-222-911-3
На обложке: Борис Зеленый. Иерусалим (1-я стр.)
Цветущее дерево (2-я стр.)
60-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü ïîñâÿùàåòñÿ
От редактора-составителя
…Теперь у нас уже есть Израиль. Сюда евреи из Рос- сии привезли накопленные ими духовные богатства.
Амос Оз
Настоящее издание является продолжением серии книг «Идемте же отстроим стены Йерушалаима» и, как и предыдущие тома, посвя- щено вкладу евреев – выходцев из Российской империи, СССР, СНГ в различные области науки, культуры, образования, промышленнос- ти, военного дела в Израиле. Оно так же представляет собой сборник очерков о жизни и творчестве известных, малоизвестных и забытых деятелей еврейского ишува и Государства Израиль.
Том 17 (книга 3) открывает статья д-ра Алека Эпштейна «Созда- ние Государства Израиль как национальный проект российского ев- рейства», в которой убедительно показано, что идеи сионизма были высказаны Л.Пинскером задолго до Т.Герцля (палестинофильские идеи). Это признавал и сам Т.Герцль, и другие политические деятели.
На протяжении нескольких десятилетий – c начала 1880-х до се- редины 1920-х – большинство прибывших в Эрец-Исраэль с целью на практике возродить землю предков (возвести поселения, построить города, укрепить обороноспособность) составляли российские евреи, и именно они заложили политические, социальные и культурные основы Государства Израиль. Свой вклад в развитие и процветание нашей стра- ны внесли и вносят последующие поколения русских евреев.
Выражаю благодарность основателю и руководителю Центра д-ру
Михаилу Пархомовскому за ценные советы и работу в качестве глав- ного редактора.
Благодарю изд-во «Филобиблон» (руководитель д-р Леонид Юни- верг) за литературную редакцию, корректуру и составление указателя имен и Александра Кучерского (изд-во «Достояние») за подготовку к печати иллюстраций и форматирование книги.
Признательна добровольным помощникам, друзьям нашего Цен- тра Эльвире Берман-Штернфельд, Белле Струцовской и Елене Гольц- фарб-Лурье.
За постоянную поддержку особую благодарность выражаю муни- ципалитету Реховота и его Отделу абсорбции.
Юлия Систер
ИСТОРИЯ
Создание Государства Израиль как национальный проект российского еврейства
Алек Эпштейн (Иерусалим)
Хотя основоположником политического сионизма принято счи- тать Теодора Герцля – уроженца Будапешта, прожившего большую часть своей жизни в Париже и в Вене и лишь однажды (в 1903 году) посетившего Россию, не будет преувеличением сказать, что без рус- ского еврейства сионистская идея не имела ни малейших шансов быть реализованной.
Во-первых, почти все основоположники главных направлений сионистской мысли ро- дились на территории Российской империи: Ахад-ха-Аам (Ашер Гинцберг), родоначаль- ник так называемого «духовного» сионизма, – в Украине, в местечке Сквира в 1856 году; Менахем Усышкин, лидер «практических сионистов», – в местечке Дубровна Моги- левской губернии в 1863 году; Авраам Ицхак ха-Коэн Кук, фактический создатель доктри- ны религиозного сионизма, – в Даугавпилсе в 1865 году; Владимир (Зеэв) Жаботинский, ведущий идеолог и лидер так называемого «ревизионист-
Менахем Усышкин
ского» движения, – в Одессе в 1880 году; Берл Кацнельсон, ведущий идеолог рабо- чего движения, – в Бобруйске в 1887 году. Собственно, практически все ведущие идеологи социал-демократического сио- низма – уроженцы Российской империи: Аарон Давид Гордон появился на свет в городе Троянов Житомирской области в 1856 году, Нахман Сыркин – в Могилеве в 1868 году, Бер Борохов – в Золотоноше, в Украине, в 1881 году... Основополож- ником политического сионизма принято считать Теодора Герцля, но это, скорее, – историческое недоразумение: за полто-
Лев пинскер
8
- Ахад-ха-Ам
- Нахум Соколов
- Зеэв Жаботинский
ра десятилетия до «Еврейского государства» практически те же идеи высказал в «Автоэмансипации» уроженец Томашполя (Волынская гу- берния) врач Лео Пинскер. Когда Т.Герцль прочел книгу Л.Пинскера,
то записал в дневнике: «Поразительное совпадение в критической части, значительное сходство в части конструктивной. Жаль, что я не прочел это произведение до того, как моя книга была подписа - на к печати. В то же время даже хорошо, что я не был знаком с ним, – вполне возможно, что тогда я бы и вовсе отказался от своего
труда»1. Похожего мнения придерживался, кстати, и М.М.Усышкин, получивший и прочитавший брошюру Т.Герцля в 1896 году. По его
словам, «в ее теоретической части сионисты России, после уже вы - шедших брошюр Пинскера и Лилиенблюма, не найдут ничего нового»2.
В высшей степени показательно, например, что первая глава фунда- ментальной монографии Ицхака Маора «Сионистское движение в России» посвящена именно периоду, предшествовавшему деятель- ности Т.Герцля3.
1
Цит. по: Герцль – личность и деятельность. Сионистская мечта и ее вопло- щение: Методическое пособие / Всемирная сионистская организация. Иеру- салим, 2004. С.15.
2
Цит. по: Свет Г. Русские евреи в сионизме и в строительстве Палестины и Израиля // Книга о русском еврействе от 1860-х годов до революции 1917 года / Союз русских евреев. Нью-Йорк, 1960. С.255.
3
Маор И. Сионистское движение в России. Иерусалим: Библиотека-Алия,
1977. С.5–34 [на иврите опубликовано в 1973 г.].
ꢀ
Хотя сам Т.Герцль был ассимилированным европейцем, доста- точно комфортно чувствовавшим себя как в Австро-Венгрии, так и в Германии, Швейцарии и Франции, у него были значительные пробле- мы во взаимоотношениях с евреями Западной Европы. Не случайно израильский исследователь Йосеф Гольдштейн называет обращение к российскому еврейству «переломным моментом» в деятельности
Т.Герцля4. «Отчаявшись заручиться поддержкой таких западно - европейских еврейских финансовых магнатов, как бароны Гирш и Ротшильд, Т.Герцль решил обратиться к широким еврейским массам
Восточной Европы», – отмечает Й.Гольдштейн. К первым политичес- ким шагам Т.Герцля сторонники кружков Хиббат-Цион («Любящие Сион») в России отнеслись положительно, что нашло отражение в ана- литических статьях Нахума Соколова, редактора газеты «Ха-Цфира», выходившей в Варшаве и выражавшей обычно мнения национально настроенных евреев Российской империи. Три с половиной десятиле- тия спустя, в 1931 году, сам Н.Соколов станет главой Всемирной сио- нистской организации (после его смерти в 1935 году этот пост вновь займет Хаим Вейцман), а пока, начиная с 1896 года, российское ев- рейство проявляло постоянно растущий интерес к личности Т.Герцля. Несмотря на скептицизм М.М.Усышкина, книга Т.Герцля «Еврейское государство» была переведена на несколько языков (в том числе на русский, идиш, украинский, польский) и расходилась среди евреев как в черте оседлости, так и за ее пределами. Впрочем, очень может быть, что М.М.Усышкин был прав, и факт благосклонного принятия этого сочинения российскими еврейскими читателями (в отличие, кстати, от того отторжения, которое эта брошюра вызвала среди западноев- ропейского еврейства) объясняется как раз тем, что почва уже была подготовлена российскими предшественниками Т.Герцля.
Во-вторых, создание первоначальной организационной инфра- структуры сионистского движения – тоже дело рук российских евреев. В те дни, когда Теодор Герцль только грезил о создании Сионистской организации, у российских сионистов – они называли себя палестино- филы, – подобная организация уже была: Общество вспомоществова- ния евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине (на- зывалось также Одесским палестинским обществом, вкратце – Одес- ский комитет), основанное в 1890 году. Одесский комитет собирал
4
Гольдштейн Й. История сионистского движения / Открытый университет Израиля. Раанана, 2006. Т.2 (ч.3). С.82 [на иврите опубликовано в 1980 г.].
10
средства в помощь еврейским поселенцам в Палестине/Эрец-Исраэль и распространял собранное при посредстве своего представительства в Яффо, возглавлявшегося уроженцем Елисаветграда Владимиром Темкиным. Аналогичные структуры были созданы и Т.Герцлем (Ев- рейский национальный фонд, Еврейский колониальный банк), но это случилось значительно позже, в 1901–1902 годах. Одесский комитет организовал в Одессе, Стамбуле, Бейруте, Яффо, Иерусалиме и Хай- фе сеть информационных бюро для оказания помощи переселенцам. Представителем Одесского комитета в Палестине/Эрец-Исраэль был избран Иехиэль Пинес, уроженец Ружан Гродненской губернии, со- вершивший алию еще в конце 1870-х. Одесский комитет основывал сельскохозяйственные поселения – мошавот и мелкие единичные хо- зяйства для сельскохозяйственных рабочих, поддерживал ряд культур- но-просветительных учреждений в Палестине/Эрец-Исраэль (школы, в том числе первые школы с преподаванием на иврите, детские сады), издавал книги и журналы и т.п. Среди прочего, именно Одесский ко- митет внес первый взнос в фонд, предназначенный для приобретения участка и создания Еврейского университета в Иерусалиме.
Руководство Одесского комитета обсудило книгу Герцля в июле
1896 года. Активист Одесского комитета Григорий (Цви) Белковский сообщил, что Т.Герцль обратился к нему с просьбой стать его личным представителем, а также изложил основные пункты проекта Т.Герцля и предложил комитету поддержать его начинания. После длительного обсуждения, на котором прозвучали и критические замечания, было принято решение поддержать проект и установить контакты с автором книги. Г.Белковский сообщил Т.Герцлю: «За Вами стоит Одесский ко- митет»ꢁ. Как отмечает Й.Гольдштейн, еще перед созывом I Сионист-
ского конгресса Т.Герцль «понял, что его успех зависит прежде всего от участия в нем российских делегатов, и попросил своих сподвиж - ников убедить членов Одесского комитета в серьезности его намере - ний. <…> Весной 1897 года он послал двух своих эмиссаров, Иехошуа Бухмиля и Реувена Шнирера, в ряд городов России и Литвы, где они пытались убедить местных лидеров кружков Хиббат-Цион принять
участие в конгрессе»ꢂ. Среди 197 зарегистрированных делегатов I Си-
ꢁ
Письмо Г.Белковского Т.Герцлю от 20 сент. 1896 г. [на немецком языке] // Центральный сионистский архив, единица хранения А-171/20; цит. в книге Й.Гольдштейна «История сионистского движения». Т.2. С.84. ꢂ Гольдштейн Й. Указ. соч. Т.2. С.88, 111.
11
онистского конгресса было 66 представителей России7. В 1898 году в России насчитывалось 373 сионистских кружка – больше, чем в какой-либо иной стране в то время; спустя всего пять лет их число выросло до 1572!8 Начиная с III Сионистского конгресса (он прошел в Базеле в августе 1899 года), делегаты из России составляют более трети членов руководства Сионистской организации (так называемого «Большого исполкома»).
О впечатлениях самого Т.Герцля от российских представителей, с которыми ему довелось встречаться и общаться, красноречиво свиде- тельствует следующая его дневниковая запись: «Хотя российские си -
онисты не слишком активно участвовали в официальных прениях на конгрессе, мы все же сумели оценить их по беседам в кулуарах. Если сформулировать в одной фразе самое сильное впечатление о них, то можно сказать: они сохранили внутреннюю цельность, потерянную большинством западноевропейских евреев. Они чувствуют себя наци - онально мыслящими евреями, но без ограниченности, нетерпимости и национального высокомерия. <…> Они не ассимилируются ни в одном из других народов, но при этом готовы перенять лучшее у каждого из них. Им удается оставаться гордыми и естественными. <…> После того как мы их увидели, мы поняли, что давало силы нашим предкам оставаться евреями во всех испытаниях. Они открывают нам нашу историю во всей ее полноте и жизнеспособности. Мне пришлось мно - го размышлять о том, почему поначалу в качестве аргумента против меня часто выдвигалось следующее утверждение: “Этим делом ты сможешь увлечь только российских евреев”. Если бы сегодня я снова услышал это, то ответил бы: “Вполне достаточно!”»ꢀ.
Собственно, I Сионистский конгресс можно назвать первым лишь с определенными оговорками. За тринадцать лет до конгресса, прошед- шего в Базеле в августе 1897 года, первый сионистский съезд прошел в ноябре 1884 года в Катовице. В нем приняли участие 34 делегата от раз- личных палестинофильских групп, большинство из которых приехали из России, однако присутствовали и делегаты из Румынии, Франции и Англии. Приглашение на съезд было составлено на иврите (!), а к нему прилагались переводы на различные языки. На съезде планировалось
7 Свет Г. Указ. соч. С.256.
8 Гольдштейн Й. Указ. соч. С.101.
ꢀ Герцль Т. Базельский конгресс // Речи и статьи (1899–1904), Иерусалим: Си- онистская библиотека, 1976. Т.1. С.143–145 [на иврите].
12
отметить столетний юбилей Моше Монтефиоре, пришедшийся на тот же год, и отдать дань уважения его деятельности в Палестине/Эрец-Ис- раэль.
В речи на открытии Катовицкого съезда Лев Пинскер говорил о необходимости вернуться в Палестину/Эрец-Исраэль, которую назвал «нашей старой матушкой». Л.Пинскер говорил также, что именно труд на земле поможет возродить еврейский народ в Палес-
тине/Эрец-Исраэль: «Колонизация станет светочем на нашем пути, нашей путеводной звездой, нашим сегодняшним знаменем. Эта идея уже вышла за рамки простого замысла и претворяется российски - ми евреями в действительность. Пока злые языки порочили их имя, наши первопроходцы собственными руками всего лишь за два года создали сельскохозяйственные поселения – а именно эти поселения дают прочную надежду на будущее наших братьев на горах Сион -
ских»10. На съезде было решено направить одну делегацию в Палес- тину/Эрец-Исраэль – для проверки состояния поселений, выяснения их практических нужд и определения практических шагов, которые нужно предпринять, чтобы способствовать успеху заселения стра- ны, а другую – в Стамбул, чтобы добиться от султана разрешения на дальнейшее заселение Палестины – это было за десятилетие с лиш- ним до подобных (впрочем, столь же безуспешных) поездок Т.Герцля к Абдул Хамиду II! В июне 1887 года состоялся новый съезд россий- ских сионистов – в городе Друскеники Ковенской губернии, два года спустя еще один съезд прошел в Вильно – и все это до конгресса в Базеле! В 1890 году – за годы до того, как дипломатическая деятель- ность Т.Герцля получит признание правящих кругов, и за тринад- цать лет до его визита в Россию российские власти дали разрешение на создание Общества вспомоществования евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине (ключевую роль в получении данного разрешения сыграл Александр Цедербаум).
В-третьих, именно российские евреи добились того, что сионист- ский проект стал реализовываться в Палестине/Эрец-Исраэль, а не в Уганде или где бы то ни было еще. Именно семь членов Большого исполнительного комитета из России во главе с уроженцем Кремен- чуга Йехиэлем (Ефимом) Членовым (позднее – вице-президентом
10
Цит. по: Гольдштейн Й. История сионистского движения (Тель-Авив: От- крытый университет Израиля, 2004), Т.1 (ч.2). С.258 [на иврите опубликовано в 1980 г.].
13
Всемирной сионистской организации) покинули в августе 1903 года зал заседаний VI Сионистского конгресса, в ходе которого Т.Герцль представил предложение проверить возможность создания еврейско- го государства в Восточной Африке. Стихийно сформировалась груп- па из 128 делегатов конгресса, выступивших против идеи Т.Герцля заменить Палестину Угандой. Показательна развернувшаяся вслед за
этим сцена: «Собравшиеся [в малом зале противники угандийского проекта] выставили у двери двух дежурных, двух крепких парней, строго-настрого наказав им никого не впускать. И вот появился Герцль и выражает желание присутствовать на собрании. Один из дежурных пошел в зал и сообщил об этом председательствующему. Тот попросил довести до сведения Герцля, что это собрание только российских делегатов. Герцль промолчал, отправился в свой отель и вернулся с удостоверением, что он является делегатом конгресса также и от России. Дежурный снова пошел к председательствую - щему. Тот вышел из зала к Герцлю и сообщил об опасении некоторых заседающих, что он, Герцль, силой своей личности склонит деле - гатов ко всему, чего захочет. Но Герцль настаивал на своем праве участвовать в собрании в качестве российского делегата, и ему было
позволено войти»11. Представим себе эту ситуацию – Т.Герцль просит разрешения принять участие в дискуссии на Сионистском конгрессе, и этот ассимилированный европеец получает право выступить перед делегатами на основании того, «что он является делегатом конгресса также и от России»! Дабы рассеять опасения, возникшие у значитель- ной части делегатов в результате полемики об Уганде, Т.Герцль счел необходимым успокоить их и произнес традиционную клятву: «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя десница!» И поднял пра- вую руку в подтверждение этих слов. Однако большинство российс- ких делегатов конгресса ему так и не поверили, и в октябре 1903 года они собрались в Харькове, где объединились в группировку Ционей Цион («Сионисты Сиона»), лидером которой стал упоминавшийся выше М.М.Усышкин. Усилия российских делегатов принесли свои плоды: VII Сионистский конгресс, прошедший в 1905 году, отклонил «план Уганды», подтвердив приверженность сионистского движения идее создания еврейской государственности только и исключительно в Палестине/Эрец-Исраэль.
11 Цит. по: Маор И. Указ. соч. С.189.
14
В-четвертых, реализация основной цели сионизма – создание ев- рейской государственности – была бы невозможной в принципе без массового участия евреев в переселенческом проекте, являвшемся непременным условием для формирования общества, которое могло бы претендовать на право на самоопределение. В критические для становления еврейской общины Палестины/Эрец-Исраэль годы – с конца XIX века до середины 1920-х годов, когда, собственно, и про- изошло международное признание сионизма (достаточно почитать в этой связи Постановление о мандатном правлении в Палестине, при- нятое в июле 1922 года) – подавляющее большинство прибывавших в страну переселенцев были именно российскими евреями. Без этой иммиграционной волны российских евреев сионизм остался бы еще одной утопической идеологией.
Итак, сыграв центральную роль в формировании сионистской идеологии и организации структур сионистского движения в стране, которая была выбрана этим движением как площадка для реализации национальных чаяний, российские евреи оказались в авангарде пере- селенческого проекта, который, собственно, и позволил сформировать так называемый «новый ишув». За годы первой алии (1882–1903) в Палестину/Эрец-Исраэль прибыло около 25 тысяч человек, что поз- волило увеличить еврейское население страны до 47 тысяч. Кроме относительно небольшой группы йеменитов, все остальные были – русские. Почти исключительно «русской» была и 40-тысячная вторая алия (1904–1914), вызванная усилением национального самосознания евреев России после Кишиневского погрома, других антисемитских эксцессов и поражения революции 1905 года. Еще свыше 35 тысяч человек прибыли в Палестину/Эрец-Исраэль в период третьей алии (1919–1923), опять-таки – почти исключительно из России. Многие из иммигрантов, прибывших в страну в те годы, впоследствии поки- нули ее, но факт остается фактом: именно русские евреи, пусть и не в большинстве, но все же в довольно массовом порядке переселяв- шиеся в Палестину/Эрец-Исраэль создали реальность, при которой
Лига наций постановила: «…историческая связь еврейского народа с Палестиной осознана и признана, так же как и право евреев возро - дить свой национальный очаг на этой земле»12. «Соответствующая еврейская организация получит статус официальной организации, в
12 Здесь и далее цит. по: Мандат на Палестину. Постановление от 24 июля 1922 года // Халамиш А. От «национального очага» – к государству. Еврейская об-