№ 6 2017 Issn 2587-6112
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rome and China Oxford Studies in Early Empires
ROME AND CHINA OXFORD STUDIES IN EARLY EMPIRES Series Editors Nicola Di Cosmo, Mark Edward Lewis, and Walter Scheidel The Dynamics of Ancient Empires: State Power from Assyria to Byzantium Edited by Ian Morris and Walter Scheidel Rome and China: Comparative Perspectives on Ancient World Empires Edited by Walter Scheidel Rome and China Comparative Perspectives on Ancient World Empires Edited by Walter Scheidel 1 2009 1 Oxford University Press, Inc., publishes works that further Oxford University’s objective of excellence in research, scholarship, and education. Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offi ces in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Copyright © 2009 by Oxford University Press, Inc. Published by Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016 www.oup.com Oxford is a registered trademark of Oxford University Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rome and China : comparative perspectives on ancient world empires / edited by Walter Scheidel. p. cm.—(Oxford studies in early empires) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-19-533690-0 1. History, Ancient—Historiography. 2. History—Methodology. 3. Rome—History— Republic, 265–30 b.c. -

340336 1 En Bookbackmatter 251..302
A List of Historical Texts 《安禄山事迹》 《楚辭 Á 招魂》 《楚辭注》 《打馬》 《打馬格》 《打馬錄》 《打馬圖經》 《打馬圖示》 《打馬圖序》 《大錢圖錄》 《道教援神契》 《冬月洛城北謁玄元皇帝廟》 《風俗通義 Á 正失》 《佛说七千佛神符經》 《宮詞》 《古博經》 《古今圖書集成》 《古泉匯》 《古事記》 《韓非子 Á 外儲說左上》 《韓非子》 《漢書 Á 武帝記》 《漢書 Á 遊俠傳》 《和漢古今泉貨鑒》 《後漢書 Á 許升婁傳》 《黃帝金匱》 《黃神越章》 《江南曲》 《金鑾密记》 《經國集》 《舊唐書 Á 玄宗本紀》 《舊唐書 Á 職官志 Á 三平准令條》 《開元別記》 © Springer Science+Business Media Singapore 2016 251 A.C. Fang and F. Thierry (eds.), The Language and Iconography of Chinese Charms, DOI 10.1007/978-981-10-1793-3 252 A List of Historical Texts 《開元天寶遺事 Á 卷二 Á 戲擲金錢》 《開元天寶遺事 Á 卷三》 《雷霆咒》 《類編長安志》 《歷代錢譜》 《歷代泉譜》 《歷代神仙通鑑》 《聊斋志異》 《遼史 Á 兵衛志》 《六甲祕祝》 《六甲通靈符》 《六甲陰陽符》 《論語 Á 陽貨》 《曲江對雨》 《全唐詩 Á 卷八七五 Á 司馬承禎含象鑒文》 《泉志 Á 卷十五 Á 厭勝品》 《勸學詩》 《群書類叢》 《日本書紀》 《三教論衡》 《尚書》 《尚書考靈曜》 《神清咒》 《詩經》 《十二真君傳》 《史記 Á 宋微子世家 Á 第八》 《史記 Á 吳王濞列傳》 《事物绀珠》 《漱玉集》 《說苑 Á 正諫篇》 《司馬承禎含象鑒文》 《私教類聚》 《宋史 Á 卷一百五十一 Á 志第一百四 Á 輿服三 Á 天子之服 皇太子附 后妃之 服 命婦附》 《宋史 Á 卷一百五十二 Á 志第一百五 Á 輿服四 Á 諸臣服上》 《搜神記》 《太平洞極經》 《太平廣記》 《太平御覽》 《太上感應篇》 《太上咒》 《唐會要 Á 卷八十三 Á 嫁娶 Á 建中元年十一月十六日條》 《唐兩京城坊考 Á 卷三》 《唐六典 Á 卷二十 Á 左藏令務》 《天曹地府祭》 A List of Historical Texts 253 《天罡咒》 《通志》 《圖畫見聞志》 《退宮人》 《萬葉集》 《倭名类聚抄》 《五代會要 Á 卷二十九》 《五行大義》 《西京雜記 Á 卷下 Á 陸博術》 《仙人篇》 《新唐書 Á 食貨志》 《新撰陰陽書》 《續錢譜》 《續日本記》 《續資治通鑑》 《延喜式》 《顏氏家訓 Á 雜藝》 《鹽鐵論 Á 授時》 《易經 Á 泰》 《弈旨》 《玉芝堂談薈》 《元史 Á 卷七十八 Á 志第二十八 Á 輿服一 儀衛附》 《雲笈七籖 Á 卷七 Á 符圖部》 《雲笈七籖 Á 卷七 Á 三洞經教部》 《韻府帬玉》 《戰國策 Á 齊策》 《直齋書錄解題》 《周易》 《莊子 Á 天地》 《資治通鑒 Á 卷二百一十六 Á 唐紀三十二 Á 玄宗八載》 《資治通鑒 Á 卷二一六 Á 唐天寶十載》 A Chronology of Chinese Dynasties and Periods ca. -

1 GEHN Workshop Utrecht, June 2005 the Rise, Organization, And
1 Christine Moll-Murata The Rise, Organization, and Institutional Framework of Factor Markets, 23-25 June 2005 http://www.iisg.nl/hpw/factormarkets.php GEHN Workshop Utrecht, June 2005 The Rise, Organization, and Institutional Framework of Factor Markets Christine Moll-Murata Working for the State: The Chinese Labour Market for Manufacture and Construction, 1000-1900 Please do not cite without permission from the author [email protected] This is a report on work in progress from a project that focuses on state administration and self organization of the crafts in the Qing Dynasty (1644-1911).1 In Chinese craft historiography, the transition from labour obligations for artisan households to a system of hired labour in the official sector between the fifteenth and seventeenth centuries is generally considered as the most important institutional and legal change. While there can be no doubt about the impact of this reform, we have sought to find out about earlier institutional arrangements as well, and to explore the intra-dynastic transformation processes. Present-day Chinese historiography most often treats craft production in the service of the state, the “official crafts” as quite distinct from that in the private sector (“civil crafts”). Such an approach implies that the effect of dynastic economic policies was to create “a closed and self-sufficient part of the feudal economy, which was ultimately incompatible with private handicraft industry”. 2 We will explore how far this characterization is accurate for the periods covering the dynasties Song (960–1276), Yuan (1279–1368), Ming (1368–1644), and Qing (1644–1911). It is useful to take this long perspective for a later global comparison of the role of the state in pre-industrial economies. -

Eye on Africa Cites Cop17 the World Wildlife Conference Date of Issue: 24 September 2016
FASCINATION PHILATELIC BULLETIN No. 120 EYE ON AFRICA CITES COP17 THE WORLD WILDLIFE CONFERENCE DATE OF ISSUE: 24 SEPTEMBER 2016 UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DATE OF ISSUE: 24 OCTOBER 2016 SPECIAL EVENT SHEETS AND ANNUAL COLLECTION FOLDERS 2016 LETTER FROM THE CHIEF Dear Collectors, I recently returned from Bangkok, Thailand, for the 32nd Asian International Stamp Exhibition, where UNPA had issued for the first time ever a 3 stamp mini-sheet with three currencies, US dollar, Swiss franc and euro. The stamp sheet was very well received by collectors and sold out within weeks. If you did not have a chance to purchase this stamp sheet, UNPA will be issuing another three stamp mini-sheet in December for the 33rd Asian International Stamp Exhibition in Nanning, P.R. China. The stamps will feature the “Monkey King” character of the popular Chinese novel “Journey to the West” by well-known artist Li Yuzhong. Thanawat Amnajanan Chief United Nations Postal Administration UNPA has been working with CITES on our Endangered Species stamp series for over 20 years. As the 17th meeting of the Conference of the Parties to CITES (or CoP17) is being held in Johannesburg, South Africa this year; the UNPA has on 24 September issued three special “Eye on Africa” mini-sheets, featuring 12 endangered species from the Africa continent, to commemorate this world event. UNPA will also be issuing its 2016 Annual Collection folder, as well as other special event sheets to commemorate the On 24 October 2016, UNPA plans to celebrate the United Nations CTBTO 20th Anniversary of the Nuclear Test-Ban Treaty, M.S. -
![Studies in Ancient Coinage from Turkey [Richard Ashton]](https://docslib.b-cdn.net/cover/4798/studies-in-ancient-coinage-from-turkey-richard-ashton-1544798.webp)
Studies in Ancient Coinage from Turkey [Richard Ashton]
Studies in Ancient Coinage from Turkey [Richard Ashton] Autor(en): Walker, Alan S. Objekttyp: BookReview Zeitschrift: Schweizerische numismatische Rundschau = Revue suisse de numismatique = Rivista svizzera di numismatica Band (Jahr): 75 (1996) PDF erstellt am: 29.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch KOMMENTARE ZUR LITERATUR ÜBER ANTIKE NUMISMATIK Studies in Ancient Coinage from Turkey. Richard Ashton, editor. Royal Numismatic Society (Special Publication No. 29 / British Institute of Archaeology at Ankara Monograph No. 17). London, 1996. viii + 160 pp., 69 plates. Cloth bound with dust jacket. 22 x 30.5 cm. £ 45. ISBN 0 901405 33 7. -

The August 2015 Hong Kong Auctıon Sessıon B
The August 2015 Hong Kong Auctıon Sessıon B Monday, August 24, 2015 1:00 PM Hong Kong Tıme Sunday, August 23, 2015 10:00 PM Pacıfıc Tıme Foreıgn Coıns 51001-51198 Ancıent Chınese Coıns 51199- 51206 Sycee 51207-51229 Chınese Medals 51230-51250 Chınese Orders & Decoratıons 51251-51267 Foreıgn Coıns 外國錢幣 Lots 51001-51198 Stack’s Bowers and Ponterio • e August 2015 Hong Kong Auction 51004 2 Tien, ND. Tu Duc (1848-83). KM-423; Sch-351b. ANNAM Nice strike with attractive toning. 51001 3 Tien, Year 16 (1835). Minh Mang (1820-41). NGC MS-64. .............................................................$700-$900 KM-229; Sch-206d. VERY RARE. Lightly polished, still 51004 嗣德通寶。二錢。 壓印清晰,包漿極佳。 quite attractive. NGC MS-64. .............................................................$700-$900 NGC AU Details—Polished. ............................$7000-$9000 51001 明命通寶。三錢。十六年。 罕見。 輕微拋光,狀態仍佳。 NGC AU Details—Polished. ............................$7000-$9000 51002 Tien, ND (1841-47). ieu Tri (1841-47). KM-256; Sch-250. Some appealing peripheral toning. Sharply struck 51005 5 Tien, ND. Tu Duc (1848-83). KM-457.1; Sch-359. with nice luster and quite attractive. Superior overall color and luster, choice for the type. PCGS MS-62 Secure Holder. ................................$400-$600 PCGS MS-61 Secure Holder. ...........................$1000-$1500 51002 紹治通寶。一錢。 包漿略呈環形。 51005 嗣德通寶。五錢。 色澤與光度均佳, 深打,光佳,非常漂亮。 非常難得的好品。 PCGS MS-62 Secure Holder. ................................$400-$600 PCGS MS-61 Secure Holder. ...........................$1000-$1500 51003 Gold Tien, ND (1841-47). ieu Tri (1841-47). Fr-27; KM-33; Sch-295. ree abundances. Deeply toned around devices and highly attractive. NGC AU-55. ........................................................$2000-$2500 51003 紹治通寶。一錢。金幣。 表面包漿色調深暗,非常有 吸引力。 NGC AU-55. -
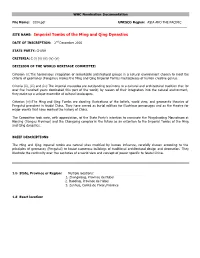
Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties
WHC Nomination Documentation File Name: 1004.pdf UNESCO Region: ASIA AND THE PACIFIC __________________________________________________________________________________________________ SITE NAME: Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties DA TE OF INSCRIPTION: 2nd December 2000 STATE PARTY: CHINA CRITERIA: C (i) (ii) (iii) (iv) (vi) DECISION OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE: Criterion (i):The harmonious integration of remarkable architectural groups in a natural environment chosen to meet the criteria of geomancy (Fengshui) makes the Ming and Qing Imperial Tombs masterpieces of human creative genius. Criteria (ii), (iii) and (iv):The imperial mausolea are outstanding testimony to a cultural and architectural tradition that for over five hundred years dominated this part of the world; by reason of their integration into the natural environment, they make up a unique ensemble of cultural landscapes. Criterion (vi):The Ming and Qing Tombs are dazzling illustrations of the beliefs, world view, and geomantic theories of Fengshui prevalent in feudal China. They have served as burial edifices for illustrious personages and as the theatre for major events that have marked the history of China. The Committee took note, with appreciation, of the State Party's intention to nominate the Mingshaoling Mausoleum at Nanjing (Jiangsu Province) and the Changping complex in the future as an extention to the Imperial Tombs of the Ming and Qing dynasties. BRIEF DESCRIPTIONS The Ming and Qing imperial tombs are natural sites modified by human influence, carefully chosen according to the principles of geomancy (Fengshui) to house numerous buildings of traditional architectural design and decoration. They illustrate the continuity over five centuries of a world view and concept of power specific to feudal China. -

Oxford Silver Pennies from A.D.925-A.D.1272
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Cla&s VOL. XLVI OXFORD SILVER PENNIES oxford: HORACE HART PRINTER TO THE UNIVERSITY OF THE yNiY£R€JTY Of Q J?: H O O o Q o ^ OXFORD SILVER PENNIES FROM A.D. 925-A.D. 1272 DESCRIBED BY C. L. STAINER, M.A. WITH FIFTEEN PLATES *aS«''!K?Wr^.,.^ OXFORD PRINTED FOR THE OXFORD HISTORICAL SOCIETY AT THE CLARENDON PRESS 1904 "^f\ y\^ 1 CONTENTS PAGE Preface .... vii ^THELSTAN, A. D. 9 25-940 Or 94 I Eadmvnd, a. d. 940 or 941-946 5 Eadred, a.d. 946-955 6 Eadwig, a.d. 955-959 . 8 Eadgar, a.d. 959-975 . 9 EaDWEARD II, A.D. 975-979 . II iEXHELR^D II, A.D. 979-IO16 12 CnVT, A.D. IO16-IO35 . 24 Harold I, a.d. 1035-1040 . 38 Harthacnvt, a.d. 1 040-1 042 43 Edward the Confessor, a.d. 1042-1066 46 Harold II, a.d. 1066 . 59 William I, a.d. 1066-1087 . 60 William II, a.d. 1087-1100 68 Henry I, A.D. 1100-1135 71 Stephen, a.d. 1135-1154 74 Matilda, a.d. 1141-1142 77 Henry II, a.d. 1154-1180 . 78 Henry II-III, a.d. i 180-1248 79 Henry III, a.d. i 248-1 272 . 83 Additional Notes 85 Index of Moneyers . 87 General Index . 90 Table .... 94 LIST OF PLATES A Hoard from Gotland Frontispiece I. ^THELSTAN \ II. Eadmund, Eadred, Eadgar, Eadweard II III, IV. ^THELR^D II ... V. Cnut VI. Cnut, Harold I . VII. Harold I, Harthacnut At end VIII, IX. -

Auction 39 | January 21-25, 2021 | Session G
Numismatic Literature 4012. Allan, John, A Catalogue of the Indian Coins in the British Museum: Coins of Ancient India, London, 1936, original printing, 318 pages, 46 plates, hardcover, mostly Punchmarked coins of Session G the Mauryan Empire and tribal issues of ancient India. Nicely organized to facilitate identification of types. The plates are clear and detailed, , ex The Skanda Collection Library $75 - 100 4013. Allan, John, A Catalogue of the Indian Coins in the British Begins at 10:00 PST on Monday, January 25, 2021 Museum: Coins of Ancient India, Originally published 1936, reprinted by Eastern Book House, Patna, India, 1989, 302 pages, 46 plates, hardcover with dust jacket. Mostly punchmarked coins of the Mauryan Empire and tribal issues of ancient India. Nicely Numismatic Literature organized to facilitate identification of types. The plates are mediocre, which is typical of Indian reprints, , 4001. A Catalogue of the Indian Coins in the British Museum: Coins ex James Farr Collection Library $20 - 30 of Ancient Allan, J, A Catalogue of the Indian Coins in the British Museum: Coins of Ancient India, London, 1936, original printing, 4014. Allan, John, A Catalogue of the Indian Coins in the British 318 pages, 46 plates, hardcover with dusk jacket. Mostly Museum: Coins of Gupta Dynasties and of Sasanka, King of Punchmarked coins of the Mauryan Empire and tribal issues of Gauda, Originally published 1914 (British Museum reprint of ancient India. Nicely organized to facilitate identification of types 1967), 181 pages, 24 plates in good quality, hardcover with dust with excellent high quality photographic plates, , jacket. Altekar’s work replaces this informationally & is more ex The Skanda Collection Library $50 - 75 comprehensive, but this is still a good collection and the photo record is worth having even at reprint quality, , 4002. -

Countering Looting of Antiquities in Syria and Iraq
COUNTERING LOOTING OF ANTIQUITIES IN SYRIA AND IRAQ Final Report Research and Training on Illicit Markets for Iraqi and Syrian Art and Antiquities: Understanding networks and markets, and developing tools to interdict and prevent the trafficking of cultural property that could finance terrorism Photo credit: Associated Press/SANA US State Department Bureau of Counterterrorism (CT) Written by Dr. Neil Brodie (EAMENA, School of Archaeology, University of Oxford), with support from the CLASI team: Dr. Mahmut Cengiz, Michael Loughnane, Kasey Kinnard, Abi Waddell, Layla Hashemi, Dr. Patty Gerstenblith, Dr. Ute Wartenberg, Dr. Nathan Elkins, Dr. Ira Spar, Dr. Brian Daniels, Christopher Herndon, Dr. Bilal Wahab, Dr. Antonietta Catanzariti, Barbora Brederova, Gulistan Amin, Kate Kerr, Sayari Analytics, Dr. Corine Wegener Under the general direction of Dr. Louise Shelley and Judy Deane. 1 Table of Contents 1. Executive Summary 3-4 2. Final Report Neil Brodie 5-22 3. Attachments A. Final Monitoring Report Abi Weddell, Layla Hashemi, and Barbora Brederova 23-25 B. Trafficking Route Maps Mahmut Cengiz 26-27 C. Policy Recommendations Patty Gerstenblith 29-31 D. Training Gaps Summary Michael Loughnane 32-33 E. End Notes 33-41 2 Executive Summary The looting of antiquities has been a scourge throughout history, especially in times of war. But over the past decade there have been changes in technology – especially in excavation, transport and marketing via social media and the Internet--that have expanded and globalized the trade and made it easier for non-experts to reap the profits. This report looks at (1) the current state of the trade in looted antiquities from Iraq and Syria, (2) the role of new technologies that make it easier for terrorists and criminal groups to profit and (3) new ways to track terrorist involvement in the trade and try to disrupt it. -

View PDF Catalogue
adustroaliawn conin auctieiosns AUCTION 336 This auction has NO room participation. Live bidding online at: auctions.downies.com AUCTION DATES Monday 18th May 2020 Commencing 9am Tuesday 19th May 2020 Commencing 9am Wednesday 20th May 2020 Commencing 9am Thursday 21st May 2020 Commencing 9am Important Information... Mail bidders Mail Prices realised All absentee bids (mail, fax, email) bids must Downies ACA A provisional Prices Realised list be received in this office by1pm, Friday, PO Box 3131 for Auction 336 will be available at 15th May 2020. We cannot guarantee the Nunawading Vic 3131 www.downies.com/auctions from execution of bids received after this time. Australia noon Friday 22nd May. Invoices and/or goods will be shipped as soon Telephone +61 (0) 3 8677 8800 as practicable after the auction. Delivery of lots Fax +61 (0) 3 8677 8899 will be subject to the receipt of cleared funds. Email [email protected] Website www.downies.com/auctions Bid online: auctions.downies.com 1 WELCOME TO SALE 336 Welcome to Downies Australian Coin Auctions Sale 336! As with so many businesses, and the Australian community in general, the COVID-19 pandemic has presented Downies with many challenges – specifically, in preparing Sale 336. The health and safety of our employees and our clients is paramount, and we have worked very hard to both safeguard the welfare of all and create an auction of which we can be proud. As a consequence, we have had to make unprecedented modifications to the way Sale 336 will be run. For example, the sale will be held without room participation. -

Mint and Fiscal Administration Under Diocletian, His Colleagues, and His Successors A.D
Mint and Fiscal Administration under Diocletian, His Colleagues, and His Successors A.D. 305-24 Michael Hendy The Journal of Roman Studies, Vol. 62. (1972), pp. 75-82. Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0075-4358%281972%2962%3C75%3AMAFAUD%3E2.0.CO%3B2-F The Journal of Roman Studies is currently published by Society for the Promotion of Roman Studies. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/about/terms.html. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/journals/sprs.html. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is an independent not-for-profit organization dedicated to and preserving a digital archive of scholarly journals. For more information regarding JSTOR, please contact [email protected]. http://www.jstor.org Fri Jun 15 12:12:55 2007 MINT AND FISCAL ADMINISTRATION UNDER DIOCLETIAN, HIS COLLEAGUES, AND HIS SUCCESSORS A.D. 305-24 By MICHAEL HENDY In a short article in the Zeitschrift fur Numismatik for 1887, entitled ' Die funfzehn Munzstatten der funfzehn diocletianischen