Vinogradov I.A. 2018-2.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Artist As Literary Character in the Works of Anton Chekhov
THE ARTIST AS LITERARY CHARACTER IN THE WORKS OF ANTON CHEKHOV by Amber Jo Aulen A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Slavic Languages and Literatures University of Toronto Copyright by Amber J. Aulen 2018 ABSTRACT The Artist as Literary Character in the Work of Anton Chekhov Doctor of Philosophy 2017 Amber Jo Aulen Department of Slavic Languages and Literatures University of Toronto The present dissertation considers the methodology of Anton Chekhov’s literary ethics by focusing on the figure of the artist in his work. There are two general strategies he employs in depicting this figure. The first regards his engagement with typicality in characterizing the artist, and the second regards the reflexivity of the artist, which is to say the artist’s actions on the fictional plane draw attention to the author’s actions on the meta-fictional plane. The concern with typicality vis-à-vis the artist is more prominent in his earlier stories and is the focus of the first part of the dissertation. Chapter One addresses typicality in the genre of the physiologie in France and its Russian counterpart, the fiziologicheskii ocherk. This discussion lays the groundwork for Chapter Two, which addresses Chekhov’s move towards the complicated type in a trio of stories showcasing artists published in short succession in February 1886 – “An Actor’s Death” (“Akterskaia gibel’”), “Requiem” (“Panikhida”), and “Anyuta” (“Aniuta”). The reflexive quality of the figure of the artist, which we also find in the three aforementioned stories, is more prominent in Chekhov’s later stories and is the focus of the second part of the dissertation. -
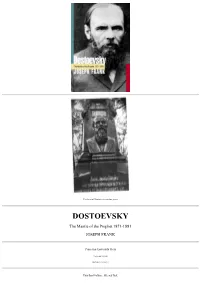
Winnovative HTML to PDF Converter for .NET
The bust of Dostoevsky on his grave DOSTOEVSKY The Mantle of the Prophet 1871-1881 JOSEPH FRANK Princeton University Press Copyright © 2002 ISBN 0-6911-1569-9 This final volume, like my first, is dedicated to my wife, Marguerite, my lifelong companion, critic, and inspiration. And to our daughters Claudine and Isabelle, and grandchildren Sophie and Henrik. CONTENTS List of Illustrations ix Preface xi Transliteration and Texts xv PART I: A NEW BEGINNING Chapter 1: Introduction 3 Chapter 2: A Quiet Return 14 Chapter 3: Grazhdanin: The Citizen 38 Chapter 4: Narodnichestvo: Russian Populism 65 Chapter 5: The Diary of a Writer, 1873:1 87 Chapter 6: The Diary of a Writer, 1873: II 103 Chapter 7: At Bad Ems 120 Chapter 8: A Literary Proletarian 130 Chapter 9: Notes for A Raw Youth 149 Chapter 10: A Raw Youth: Dostoevsky's Trojan Horse 171 PART II: A PERSONAL PERIODICAL Chapter 11: A New Venture 199 Chapter 12: A Public Figure 215 Chapter 13: Intimations of Mortality 235 Chapter 14: The Diary of a Writer, 1876-1877 254 Chapter 15: Toward The Brothers Karamazov 282 Chapter 16: The Jewish Question 301 Chapter 17: Turgenev, Tolstoy, and Others 320 Chapter 18: Stories and Sketches 338 part III: "with words to sear the hearts of men" Chapter 19: Resurrection and Rebellion 361 Chapter 20: Man in the Middle 377 Chapter 21: A New Novel—and a Feuilleton 390 Chapter 22: The Great Debate 407 Chapter 23: Rebellion and the Grand Inquisitor 426 Chapter 24: A Last Visit 443 Chapter 25: An Impatient Reader 460 Chapter 26: Terror and Martial Law 475 Chapter 27: -

Raykhlina Dissertation August 2018
RUSSIAN LITERARY MARKETPLACE: PERIODICALS, SOCIAL IDENTITY, AND PUBLISHING FOR THE MIDDLE STRATUM IN IMPERIAL RUSSIA, 1825-1865 A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History By Yelizaveta Raykhlina, B.A. Washington, D.C. May 30, 2018 Copyright 2018 by Yelizaveta Raykhlina All Rights Reserved ii RUSSIAN LITERARY MARKETPLACE: PERIODICALS, SOCIAL IDENTITY, AND PUBLISHING FOR THE MIDDLE STRATUM IN IMPERIAL RUSSIA, 1825-1865 Yelizaveta Raykhlina, B.A. Thesis Advisor: Catherine Evtuhov, Ph.D. ABSTRACT This dissertation examines pre-reform Russian periodicals as sources of middle-class culture and argues for the importance of these sources for understanding the fluctuating nature of Russia’s middling groups. It focuses on the private, for-profit newspaper Northern Bee (Severnaia pchela) and thick-journal Library for Reading (Biblioteka dlia chteniia) as genres of European middle class culture transposed onto Russian soil that were produced for an audience of the “middle stratum”, composed of gentry in state service, non-noble civil servants, provincial landowners, wealthy merchants, manufacturers, professionals, and some townspeople. In addition to the periodicals, the dissertation uses archival sources and published correspondence and memoirs. The dissertation begins by contextualizing the publishers and editors of these periodicals as the successful products of Catherine II’s social engineering project, who propagated the values of education, work, and individual achievement. It then analyzes the sources for these periodicals, showing that the Bee and the Library transferred the genres and journalistic practices of European bourgeois publications into a Russian context. -

Russian 462 Dostoevsky
n Russia 462 vsky Dostoe Dostoevsky’s study, St Petersburg The Admiralty and St Isaac's University of Michigan, Department of Slavic Languages and Literatures This course studies the life and work of Fedor Dostoevsky, locating him and his oeuvre in the cultural and intellectual history of Russia, while also examining an extensive and representative sample of his prose fiction in detail. It is intended both for those with a general interest in Russian literature, and for those with a specific, scholarly or literary interest in Dostoevsky. Poor Folk, The Double, Notes from the Underground, Crime and Punishment, and The Brothers Karamazov are read and analyzed. His contribution to literary and literary-political discussions of the time is assessed. , For more information, contact the instructor, Michael Makin ([email protected]) MWF 11-12, Fall Term 05 Organization Russian 462/Russian 856 Fedor Dostoevsky Fall Term, 2005 M W F 11-12 2002 MLB This course studies the life and work of Fedor Dostoevsky, locating him and his oeuvre in the cultural and intellectual history of Russia, while also examining an extensive and representative sample of his prose fiction in detail. It is intended both for those with a general interest in Russian literature, and for those with a specific, scholarly or literary interest in Dostoevsky. It is expected that most students in this course will not know Russian, and it should be emphasized that they will in no way be at a disadvantage. Russian and REES undergraduate concentrators, however, are expected to complete some of the required reading in Russian (and are also expected to be able to demonstrate that they have done so – for example, by quoting relevant texts in Russian in their papers); graduate students in Russian and REES are expected to complete at least 50% of the required reading in Russian. -
Death of Ivan Ilych 1 Introduction 2 About the Author 3 Summary of the Text 4 Analysis of the Novel 5Characters of the Novel 6
Death of Ivan Ilych 1 Introduction 2 About The Author 3 Summary of the Text 4 Analysis of the Novel 5Characters of the novel 6 Theme of the Novel 7 Important Quotation explained 8 Important Questions and Answers 1 Introduction: The Death of Ivan Ilych – alternately called a short story or a novella – is probably the most famous shorter work of Count Leo Tolstoy. Since it was published in 1886, in Volume 12 of Tolstoy's collected works (edited by his wife, Countess Sofia Tolstoy), it's been hailed as a masterpiece by critics and readers. Ivan Ilych also acquired a reputation as one of the modern treatments of death – one that has changed the way that subject is treated. Writing about death was nothing new, to be sure. In the 19th century, death had been a favorite subject of the Romantics and many writers who came after them. They just couldn't stop talking about it, and created dying romantic heroes of all kinds: star-crossed lovers with tragic deaths, lonely tortured artists who came to painfully beautiful ends, and valiant men in battle who sacrificed themselves. (Our popular culture still owes a lot to the Romantics.) What was new and remarkable in Tolstoy's work was how unremarkable its main character – and his death – was. The Death of Ivan Ilych is the story of a painfully ordinary government official who comes down with an untreatable illness and dies at home slowly, painfully, and full of loneliness. He's middle aged, has an unhappy family life, and a petty personality. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles Dostoevsky
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Dostoevsky through the Lens of Orthodox Personalism: Synergetic Anthropology and Relational Ontology as Poetic Foundations of Higher Realism A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Slavic Languages and Literatures By Peter Gregory Winsky 2021 Ó Copyright by Peter Gregory Winsky 2021 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Dostoevsky through the Lens of Orthodox Personalism: Synergetic Anthropology and Relational Ontology as Poetic Foundations of Higher Realism by Peter Gregory Winsky Doctor of Philosophy in Slavic Languages and Literatures University of California, Los Angeles, 2021 Professor Vadim Shneyder, Co-Chair Professor Ronald W. Vroon, Co-Chair Studying Dostoevsky’s poetics according to the principles of Orthodox Personalism—a school of thought that utilizes Anthropological and Ontological discourse to analyze contemporary philosophical and theological questions—frames a well-traversed area of scholarly interest within a novel literary, philosophical, theological, and historical perspective. This dissertation offers a unique interpretation of his work in relation to three areas of focus. The first area, Synergetic Anthropology and Relational Anthropology, serves to establish boundaries of realism as a genre for Dostoevsky according to his Christian, yet non-Western, worldview. Second, Personalist aesthetics operate at theoretical and practical levels within the novels to create dynamic motion between typological levels of fictional beings. The third area, Hesychastic tradition, an Orthodox monastic methodology that guides adherents toward a mode of authentic being-in-relation, is coded into the novels by Dostoevsky and opens his texts to a mode of higher ii realism. As an author, Dostoevsky seeks to unravel the mystery of the human being, and in order to engage this mystery his poetics become innovative, attempting to rise up to a “higher” level of realism to faithfully depict the world according to Dostoevsky’s Orthodox Weltanschauung. -

A Reflection on Russia's Existential Nihilism from Dostoevsky's Crime
A Reflection on Russia’s Existential Nihilism from Dostoevsky’s Crime and Punishment and Notes from the Underground By Anika Tahsin Student ID – 15103043 Bachelors of Arts in English and Humanities April 2019 A Reflection on Russia’s Existential Nihilism from Dostoevsky’s Crime and Punishment and Notes from the Underground By Anika Tahsin Student ID – 15103043 A Thesis submitted to The Department of English and Humanities In Partial Fulfillments of the Requirements for the degree of Bachelors of Arts in English and Humanities Department of English and Humanities BRAC University April 2019 Declaration It is hereby declared that 1. The thesis submitted is my/our own original work while completing degree at Brac University. 2. The thesis does not contain material previously published or written by a third party, except where this is appropriately cited through full and accurate referencing. 3. The thesis does not contain material which has been accepted, or submitted, for any other degree or diploma at a university or other institution. 4. I have acknowledged all main sources of help. Student’s Full Name & Signature: Anika Tahsin 15103043 This thesis titled by “A Reflection on Russia’s Existential Nihilism from Dostoevsky’s Crime and Punishment and Notes from the Underground” submitted by Anika Tahsin (15103043) Of spring 2019 has been accepted as satisfactory In Partial Fulfillments of the Requirements for the degree of Bachelors of Arts in English and Humanities on April 7, 2019. Examining Committee ____________________________ Seema Nusrat Amin Lecturer, Department of English and Humanities BRAC University ____________________________ Professor Firdous Azim Chairperson, Department of English and Humanities BRAC University Tahsin 1 Acknowledgments From a very young age, I have been curious about the individualism in people and how each mind works differently than the other. -

From the Corners of the Russian Novel: Minor Characters in Gogol
From the Corners of the Russian Novel: Minor Characters in Gogol, Goncharov, Tolstoy, and Dostoevsky Greta Matzner-Gore Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2014 © 2014 Greta Matzner-Gore All Rights Reserved ABSTRACT From the Corners of the Russian Novel: Minor Characters in Gogol, Goncharov, Tolstoy, and Dostoevsky Greta Matzner-Gore This dissertation examines a famous formal peculiarity of nineteenth-century Russian novels: the scores upon scores of characters they embrace. Drawing on terminology developed by Alex Woloch—“character space” and “character system”—I ask how Russian writers use their huge, unwieldy systems of characters to create meaning. In each of the four central chapters I analyze a different “overcrowded” nineteenth-century Russian novel: Gogol’s Dead Souls, Part I (1842), Goncharov’s Oblomov (1859), Tolstoy’s Anna Karenina (1875-77), and Dostoevsky’s The Brothers Karamazov (1879-80). I address questions such as: what artistic purpose do the many superfluous-seeming minor characters in Gogol’s, Goncharov’s, Tolstoy’s, and Dostoevsky’s works serve? What effect does their presence have on the structure of the novels themselves? Why was Dostoevsky so worried by the criticism, which he received throughout the 1870s, that he was “overpopulating” his novels? And how did Dostoevsky’s own compositional dilemmas inform both the architectonics and the thematics of The Brothers Karamazov? As I argue, there is an increasingly strong sense in nineteenth-century Russian letters that literary characters not only resemble human beings, but even demand of us the same sort of moral obligations that people do. -

Text and Fashion in Nineteenth-Century Russian Literature and Culture
UNIVERSIТY OF CALIFORNIA Los Angeles Narrative Re/Styling: Text and Fashion in Nineteenth-Century Russian Literature and Culture A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Slavic Languages and Literatures by Sanja Lacan 2018 © Copyright by Sanja Lacan 2018 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Narrative Re/Styling: Text and Fashion in Nineteenth-Century Russian Literature and Culture by Sanja Lacan Doctor of Philosophy in Slavic Languages and Literatures University of California, Los Angeles, 2018 Professor Stephen Frank, Co-Chair Professor Ronald W. Vroon, Co-Chair This dissertation examines the symbolic role the fashion system played in the process of modernization of nineteenth-century Russian society, and in the articulation of that process in literary texts of the period. Because of its infinite potential for the creation of new and ambiguous meanings, as well as its formal similarity with literature, which requires constant innovation in order to sustain marketability, writing about fashion offered a rich context for debates about the nature of aesthetics, society, and modernity. Each chapter focuses on a unique moment in the cultivation of fashion, taste, and consumer habits in the latter half of the nineteenth century, beginning with Nikolai Nekrasov and Ivan Panaev’s commodification of literature in their journalistic and literary texts of the 1840s, through Ivan Goncharov’s narratives of self-fashioning and Nikolai Chernyshevsky’s ii examination of commerce and ideology mid-century, to Leo Tolstoy’s commodification of the female subject in Anna Karenina during the 1870s, and its subsequent echoes in our contemporary cinematic experience of the novel.