Сборник Материалов Докладов Iii Международной Научной Конференции, 24 – 29 Августа 2014 Года / Институт Биологии Внутренних Вод Им
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Universidad Autónoma De Nuevo León Facultad De Ciencias Biológicas
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS TESIS TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS ALGAS DE NUEVO LEÓN POR DIANA ELENA AGUIRRE CAVAZOS COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS CON ACENTUACIÓN EN MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS VEGETALES MAYO, 2018 TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS ALGAS DE NUEVO LEÓN Comité de Tesis Presidente: Dr. Sergio Manuel Salcedo Martínez. Secretario: Dr. Sergio Moreno Limón. Vocal 1: Hugo Alberto Luna Olvera. Vocal 2: Dr. Marco Antonio Alvarado Vázquez. Vocal 3: Dra. Alejandra Rocha Estrada. TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS ALGAS DE NUEVO LEÓN Dirección de Tesis Director: Dr. Sergio Manuel Salcedo Martínez. AGRADECIMIENTOS A Dios, por guiar siempre mis pasos y darme fortaleza ante las dificultades. Al Dr. Sergio Manuel Salcedo Martínez, por su disposición para participar como director de este proyecto, por sus consejos y enseñanzas que siempre tendré presente tanto en mi vida profesional como personal; pero sobre todo por su dedicación, paciencia y comprensión que hicieron posible la realización de este trabajo. A la Dra. Alejandra Rocha Estrada, El Dr. Marco Antonio Alvarado Vázquez, el Dr. Sergio Moreno Limón y el Dr. Hugo Alberto Luna Olvera por su apoyo y aportaciones para la realización de este trabajo. Al Dr. Eberto Novelo, por sus valiosas aportaciones para enriquecer el listado taxonómico. A la M.C. Cecilia Galicia Campos, gracias Cecy, por hacer tan amena la estancia en el laboratorio y en el Herbario; por esas pláticas interminables y esas “riso terapias” que siempre levantaban el ánimo. A mis entrañables amigos, “los biólogos”, “los cacos”: Brenda, Libe, Lula, Samy, David, Gera, Pancho, Reynaldo y Ricardo. -

Diversity in the Genus Skeletonema (Bacillariophyceae). Ii. an Assessment of the Taxonomy of S. Costatum-Like Species with the Description of Four New Species1
J. Phycol. 41, 151–176 (2005) r 2005 Phycological Society of America DOI: 10.1111/j.1529-8817.2005.04067.x DIVERSITY IN THE GENUS SKELETONEMA (BACILLARIOPHYCEAE). II. AN ASSESSMENT OF THE TAXONOMY OF S. COSTATUM-LIKE SPECIES WITH THE DESCRIPTION OF FOUR NEW SPECIES1 Diana Sarno,2 Wiebe H. C. F. Kooistra Stazione Zoologica ‘‘Anthon Dohrn,’’ Villa Comunale, 80121 Naples, Italy Linda K. Medlin Alfred Wegener Institute, Am Handelshafen 12, D-27570 Bremerhaven, Germany Isabella Percopo and Adriana Zingone Stazione Zoologica ‘‘Anthon Dohrn,’’ Villa Comunale, 80121 Naples, Italy The morphology of strains of Skeletonema Grev- Abbreviations: AIC, Akaike information criterion; ille emend Sarno et Zingone was examined in LM, CCAP, Culture Collection of Algae and Protozoa; TEM, and SEM and compared with sequence data CCMP, The Provasoli-Guillard National Center for from nuclear small subunit rDNA and partial large Cultures of Marine Phytoplankton; FP,fultoportula; subunit rDNA. Eight distinct entities were identi- FPP, fultoportula process; hLRTs, hierarchical like- fied, of which four were known: S. menzelii Guillard, lihood ratio tests; IFPP, intercalary fultoportula Carpenter et Reimann; S. pseudocostatum Medlin process; IRP, intercalary rimoportula; IRPP, inter- emend. Zingone et Sarno; S. subsalsum (Cleve) Bet- calary rimoportula process; LSU, large subunit; hge; and S. tropicum Cleve. The other four species ML, maximum likelihood; MP, maximum parsimo- were new: S. dohrnii Sarno et Kooistra sp. nov., S. ny; RP, rimoportula; RPP, rimoportula process; grethae Zingone et Sarno sp. nov., S. japonicum Zin- SSU, small subunit; SZN, Stazione Zoologica ‘‘A. gone et Sarno sp. nov., and S. marinoi Sarno et Zin- Dohrn’’ of Naples; TFP, terminal fultoportula; gone sp. -

Community Composition of the Morphologically Cryptic Diatom Genus Skeletonema in Narragansett Bay
University of Rhode Island DigitalCommons@URI Open Access Master's Theses 2015 COMMUNITY COMPOSITION OF THE MORPHOLOGICALLY CRYPTIC DIATOM GENUS SKELETONEMA IN NARRAGANSETT BAY Kelly Canesi University of Rhode Island, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.uri.edu/theses Recommended Citation Canesi, Kelly, "COMMUNITY COMPOSITION OF THE MORPHOLOGICALLY CRYPTIC DIATOM GENUS SKELETONEMA IN NARRAGANSETT BAY" (2015). Open Access Master's Theses. Paper 549. https://digitalcommons.uri.edu/theses/549 This Thesis is brought to you for free and open access by DigitalCommons@URI. It has been accepted for inclusion in Open Access Master's Theses by an authorized administrator of DigitalCommons@URI. For more information, please contact [email protected]. COMMUNITY COMPOSITION OF THE MORPHOLOGICALLY CRYPTIC DIATOM GENUS SKELETONEMA IN NARRAGANSETT BAY BY KELLY CANESI A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN OCEANOGRAPHY UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 2015 MASTER OF SCIENCE THESIS OF KELLY CANESI APPROVED: Thesis Committee: Major Professor: Tatiana Rynearson Candace Oviatt Christopher Lane Nasser H. Zawia DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL UNIVERSITY OF RHODE ISLAND 2015 ABSTRACT It is well known that morphologically cryptic species are routinely present in planktonic communities but their role in important ecological and biogeochemical processes is poorly understood. I investigated the presence of cryptic species in the genus Skeletonema, an important bloom-forming diatom, using high-throughput genetic sequencing and examined the ecological dynamics of communities relative to environmental conditions. Samples were obtained from the Narragansett Bay Long-Term Plankton Time Series, where Skeletonema spp. -

Introduction to Common Native & Invasive Freshwater Plants in Alaska
Introduction to Common Native & Potential Invasive Freshwater Plants in Alaska Cover photographs by (top to bottom, left to right): Tara Chestnut/Hannah E. Anderson, Jamie Fenneman, Vanessa Morgan, Dana Visalli, Jamie Fenneman, Lynda K. Moore and Denny Lassuy. Introduction to Common Native & Potential Invasive Freshwater Plants in Alaska This document is based on An Aquatic Plant Identification Manual for Washington’s Freshwater Plants, which was modified with permission from the Washington State Department of Ecology, by the Center for Lakes and Reservoirs at Portland State University for Alaska Department of Fish and Game US Fish & Wildlife Service - Coastal Program US Fish & Wildlife Service - Aquatic Invasive Species Program December 2009 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS Acknowledgments ............................................................................ x Introduction Overview ............................................................................. xvi How to Use This Manual .................................................... xvi Categories of Special Interest Imperiled, Rare and Uncommon Aquatic Species ..................... xx Indigenous Peoples Use of Aquatic Plants .............................. xxi Invasive Aquatic Plants Impacts ................................................................................. xxi Vectors ................................................................................. xxii Prevention Tips .................................................... xxii Early Detection and Reporting -

Diversity and Dynamics of Relevant Nanoplanktonic Diatoms in The
Diversity and dynamics of relevant nanoplanktonic diatoms in the Western English Channel Laure Arsenieff, Florence Le Gall, Fabienne Rigaut-Jalabert, Frédéric Mahé, Diana Sarno, Léna Gouhier, Anne-Claire Baudoux, Nathalie Simon To cite this version: Laure Arsenieff, Florence Le Gall, Fabienne Rigaut-Jalabert, Frédéric Mahé, Diana Sarno, etal.. Diversity and dynamics of relevant nanoplanktonic diatoms in the Western English Channel. ISME Journal, Nature Publishing Group, 2020, 14 (8), pp.1966-1981. 10.1038/s41396-020-0659-6. hal- 02888711 HAL Id: hal-02888711 https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02888711 Submitted on 3 Jul 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 5 9 / w b [ ! ! " C [ D ! " C % w &W % (" C) ) a ) +" 5 , -" [) D ." ! &/ . 0 " b , ,% 1 )" /bw," 1aw 2 -- & 9 a t " , .4 w" (5678 w" C (,% 1 )" /bw," C) ) w Cw(-(-" , .4 w" (5768 w" C +/9w!5" 1aw .Dt9" +-+56 a " C -, : ; ! 5 " < / " 68 ( b " 9 .,% 1 )" /bw," Cw(-(-" w / / " , .4 w" (5768 w" C ! = % 4 / [ ! , .4 w 1aw 2 -- /bw,&,% 1 ) t D = (5768 w C >%&? @++ ( 56 (5 (+ (+ ! b , , .4 w 1aw 2 -- /bw,&,% 1 ) t D = (5768 w C >%&? @++ ( 56 (5 (. -

Typha-Arten in Frankfurt Am Mainlisa Schäfer, Thomas Gregor, Juraj
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Botanik und Naturschutz in Hessen Jahr/Year: 2019 Band/Volume: 31 Autor(en)/Author(s): Schäfer Lisa, Gregor Thomas, Paule Juraj, Starke-Ottich Indra Artikel/Article: Typha-Arten in Frankfurt am Main 37-50 Botanik und Naturschutz in Hessen 31, 37–50, Frankfurt am Main 2019. 37 Typha-Arten in Frankfurt am Main Lisa Schäfer, Thomas Gregor, Juraj Paule, Indra Starke-Ottich & Dirk Bönsel Zusammenfassung: Bei einer Prüfung von 153 Gewässern in Frankfurt am Main wurden neben den heimischen Typha-Arten Typha angustifolia und T. latifolia Verwilderungen von Typha shuttleworthii und Pflanzungen von Typha laxmannii gefunden. Auch Typha ×glauca die Hybride zwischen Typha angustifolia und T. latifolia wurde mehrfach gefun- den. Typha species in Frankfurt/Main (Hesse) Summary: We surveyed 153 water bodies in Frankfurt am Main for Typha taxa. Apart from the indigenous taxa Typha angustifolia and Typha latifolia, we found naturalized populations of Typha shuttleworthii and cultivations of Typha laxmannii. We also found multiple specimens of Typha ×glauca, a hybrid of Typha angustifolia and Typha latifolia. Lisa Schäfer, Geschwister-Scholl-Straße73, 60488 Frankfurt am Main; [email protected] Thomas Gregor, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Abteilung Botanik und molekulare Evolutionsforschung, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main; [email protected] Juraj Paule, Senckenberg -

NJ Native Plants - USDA
NJ Native Plants - USDA Scientific Name Common Name N/I Family Category National Wetland Indicator Status Thermopsis villosa Aaron's rod N Fabaceae Dicot Rubus depavitus Aberdeen dewberry N Rosaceae Dicot Artemisia absinthium absinthium I Asteraceae Dicot Aplectrum hyemale Adam and Eve N Orchidaceae Monocot FAC-, FACW Yucca filamentosa Adam's needle N Agavaceae Monocot Gentianella quinquefolia agueweed N Gentianaceae Dicot FAC, FACW- Rhamnus alnifolia alderleaf buckthorn N Rhamnaceae Dicot FACU, OBL Medicago sativa alfalfa I Fabaceae Dicot Ranunculus cymbalaria alkali buttercup N Ranunculaceae Dicot OBL Rubus allegheniensis Allegheny blackberry N Rosaceae Dicot UPL, FACW Hieracium paniculatum Allegheny hawkweed N Asteraceae Dicot Mimulus ringens Allegheny monkeyflower N Scrophulariaceae Dicot OBL Ranunculus allegheniensis Allegheny Mountain buttercup N Ranunculaceae Dicot FACU, FAC Prunus alleghaniensis Allegheny plum N Rosaceae Dicot UPL, NI Amelanchier laevis Allegheny serviceberry N Rosaceae Dicot Hylotelephium telephioides Allegheny stonecrop N Crassulaceae Dicot Adlumia fungosa allegheny vine N Fumariaceae Dicot Centaurea transalpina alpine knapweed N Asteraceae Dicot Potamogeton alpinus alpine pondweed N Potamogetonaceae Monocot OBL Viola labradorica alpine violet N Violaceae Dicot FAC Trifolium hybridum alsike clover I Fabaceae Dicot FACU-, FAC Cornus alternifolia alternateleaf dogwood N Cornaceae Dicot Strophostyles helvola amberique-bean N Fabaceae Dicot Puccinellia americana American alkaligrass N Poaceae Monocot Heuchera americana -

Insights Into Global Planktonic Diatom Diversity: Comparisons Between Phylogenetically Meaningful Units That Account for Time
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/167809; this version posted July 24, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-ND 4.0 International license. Insights into global planktonic diatom diversity: Comparisons between phylogenetically meaningful units that account for time Teofil Nakov, Jeremy M. Beaulieu, and Andrew J. Alverson Department of Biological Sciences University of Arkansas 1 University of Arkansas, SCEN 601 Fayetteville, AR 72701 Abstract Metabarcoding has offered unprecedented insights into microbial diversity. In many studies, short DNA sequences are binned into consecutively higher Linnaean ranks, and ranked groups (e.g., genera) are the units of biodiver- sity analyses. These analyses assume that Linnaean ranks are biologically meaningful and that identically ranked groups are comparable. We used a meta-barcode dataset for marine planktonic diatoms to illustrate the limits of this approach. We found that the 20 most abundant marine planktonic diatom genera ranged in age from 4 to 134 million years, indicating the non- equivalence of genera because some had more time to diversify than others. Still, species richness was only weakly correlated with genus age, highlighting variation in rates of speciation and/or extinction. Taxonomic classifications often do not reflect phylogeny, so genus-level analyses can include phylogenet- ically nested genera, further confounding rank-based analyses. These results underscore the indispensable role of phylogeny in understanding patterns of microbial diversity. Keywords: diversification, metabarcoding, microbes, phylogeny Preprint submitted to Bioarxiv July 24, 2017 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/167809; this version posted July 24, 2017. -

Monographie Der Gattung Typha Tourn. (Typhinae Agdh., Typhaceae Schur-Engl.)
© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at 89 Monographie der Gattung Typha Tourn. (Typhinae Agdh., Typhaceae Schur-Engl.). Von Dr. M. Kronfeld. (Mit Tafel IV und V.) (Vorgelegt in der Versammlung am 7. Jänner 1888.) I. Einleitung. (Geschichtlicher Ueberblick. Allgemeines.) Es konnte nicht fehlen, dass eine allerwärts verbreitete und physiog- nomisch so sehr auffallende Gattung wie Typha schon von den ersten Natur- forschern beachtet wurde. In der That nennt bereits des Aristoteles Schüler Theophrast (371—286 n. Chr.) an mehreren Stellen seiner Pflanzengeschichte ein Gewächs ncpr). Und sicher ist, dass wir mindestens ein oder zwei der Beleg- stellen auf die Typha im heutigen Sinne beziehen dürfen. Legen wir nämlich die Ausgabe Theophrast's von Heinsius (Leyden, 1613) zu Grunde, so sind von vorneherein auszuschliessen: I 9, II 5, VIII 8 (p. 11, 31, 152, 155, 157), wo es sich bestimmt um ein gesätes (VIII) und in Weizen (II 5, VIII 8) umwandelbares Getreide1) handelt. Dagegen könnte die tup») I 8 mit knotenlosen Stengeln unsere Typha bedeuten. Ohne Zweifel ist als solche die Pflanze in IV 11 anzusehen. Von dieser heisst es, sie wachse im See Orchomenos und sei zur Speise geeignet, indem die Knaben gerne an dem zarten Theile kauen, welcher den Wurzeln zunächst ist. Des Näheren auf den ökonomischen Abschnitt verweisend, wollen wir hier nur daran erinnern, dass den Kosaken am Don der Wurzelstock von Typha latifolia noch heute zur beliebten Speise dient. Ob Theophrast diese Art im Sinne habe, wie Spren- gel2) meint, oder ob unter seiner xtcprj die in ganz Griechenland vorkommende Typha angustata Bory et Chaub. -

Submerged PLANTS
SUBMERGED PLANTS Species: Callitriche hermaphroditica, autumnal water-starwort, northern water-starwort Callitriche stagnalis, Pondwater water-starwort Family: Callitrichaceae NATIVE Leaf: Opposite. Pond: narrow submerged leaves (up to 10 mm wide) with one rounded leaf tip are sometimes present. Oval or spoon-shaped floating leaves are up to 10mm wide and are joined by tiny ridges at the base. Autumnal: all leaves are submerged, narrow and flat, 5 to 20 mm long, with inconspicuous white margins. Leaf tips have two lobes forming a U-shape; leaf bases clasp the stem but are not joined by ridges. Stem: Usually branched, rising to surface or sprawling. Flower: Tiny flowers lack sepals and C. staGNALIS petals and are located at leaf bases on minute stalks. Pond: 2-4 tiny, whitish bracts emerge from the flower base. Autumnal: bracts absent. Fruit: Small, locate at leaf bases. Four compartments, each containing one seed. Pond: oval, 1.2-1.8 mm long, 1.2-1.7 mm wide, narrow margin all around (wing), bracts at base. Autumnal: 1.1 to 1.6 mm long, 1.2 to Arthur Haines, New England Wild Flower Society Arthur Haines, New England Wild 1.8 mm wide, no margin, fruit without bracts. C. HERMAPHRODITICA Root: Fibrous, from plant base or sprouting from stem joints. Propagation: Plant fragments, seeds. Habitat: Shallow water of lake margins and streams. Gerald D. Carr, University of Oregon Gerald D. Carr, 28 29 SUBMERGED PLANTS Species: Callitriche heterophylla, large water- starwort, different leaved water- starwort, twoheaded water-starwort Callitriche palustris, (Synonym: Callitriche Donald Cameron, Maine Natural Areas Program verna), vernal water-starwort PALUSTRIS Family: Callitrichaceae NATIVE Leaf: Opposite. -
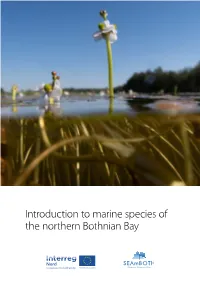
Seamboth-Introduction to Marine Species of the Northern Bothnian
Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay Nord Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA UNIONEN Preface This booklet was developed during the SEAmBOTH project. A project in which partners from Sweden and Finland mapped the sea floor and marine life of the northern Bothnian Bay in order to produce marine maps over the area. This introduction to marine species in the northern Bothnian Bay was made with the purpose of giving an easy, first glimpse into the underwater world of plants in the area. It also provides guidance to where different plants might be found and highlight their functions within the ecosystem. We hope the booklet will give you a better understanding of the incredible nature below the surface and inspire further reading, investigation, and exploration of it and its inhabitants. The SEAmBOTH project was funded by Interreg Nord and cofounded by the Swedish Agency for Marine and Water Management and Lapin liitto. The project was coordinated by Metsähallitus, while other partners were the County Administrative Board of Norrbotten, Geological Survey of Sweden, Geological Survey of Finland, Centre for Econo- mic Development, Transport and the Environment (North Ostrobothnia and Lapland), and the Finnish Environment Institute. The project started on May 1st, 2017 and finished on April 30th, 2020. Red list categories RE: Regionally Extinct CR: Critically Endangered EN: Endangered VU: Vulnerable NT: Near Threatened LC: Least Concern DD: Data Deficient Threatened species = CR, EN, VU Species are categorized in accordance with the most recent red list (2019). Please check the most recent version regularly. 2 Contents Preface 2 Vascular Plants Bottom Rosettes 5 Alisma wahlenbergii / Baltic water-plantain / Småsvalting / Upossarpio 6 Crassula aquatica / Water pygmyweed / Fyrling / Paunikko 7 Isoëtes sp. -

Freshwater Algae in Britain and Ireland - Bibliography
Freshwater algae in Britain and Ireland - Bibliography Floras, monographs, articles with records and environmental information, together with papers dealing with taxonomic/nomenclatural changes since 2003 (previous update of ‘Coded List’) as well as those helpful for identification purposes. Theses are listed only where available online and include unpublished information. Useful websites are listed at the end of the bibliography. Further links to relevant information (catalogues, websites, photocatalogues) can be found on the site managed by the British Phycological Society (http://www.brphycsoc.org/links.lasso). Abbas A, Godward MBE (1964) Cytology in relation to taxonomy in Chaetophorales. Journal of the Linnean Society, Botany 58: 499–597. Abbott J, Emsley F, Hick T, Stubbins J, Turner WB, West W (1886) Contributions to a fauna and flora of West Yorkshire: algae (exclusive of Diatomaceae). Transactions of the Leeds Naturalists' Club and Scientific Association 1: 69–78, pl.1. Acton E (1909) Coccomyxa subellipsoidea, a new member of the Palmellaceae. Annals of Botany 23: 537–573. Acton E (1916a) On the structure and origin of Cladophora-balls. New Phytologist 15: 1–10. Acton E (1916b) On a new penetrating alga. New Phytologist 15: 97–102. Acton E (1916c) Studies on the nuclear division in desmids. 1. Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb. Annals of Botany 30: 379–382. Adams J (1908) A synopsis of Irish algae, freshwater and marine. Proceedings of the Royal Irish Academy 27B: 11–60. Ahmadjian V (1967) A guide to the algae occurring as lichen symbionts: isolation, culture, cultural physiology and identification. Phycologia 6: 127–166 Allanson BR (1973) The fine structure of the periphyton of Chara sp.