The Fourth European Conference on Languages, Literature and Linguistics
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guide Book Geoecological Educational Training in Khakasia
TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY L.P. Rikhvanov, Е.G. Jazikov, S.I. Arbuzov, L.M. Bolsunovskaya, I.A. Matveenko GUIDE BOOK GEOECOLOGICAL EDUCATIONAL TRAINING IN KHAKASIA Tutorial Tomsk Polytechnic University Publishing House 2008 UDK 55+502.4(075.8) Р50 Rikhvanov L.P. Р50 Guide Book – Geoecological Educational Training in Khakasia: tutorial / L.P. Rikhvanov, Е.G. Jazikov, S.I. Arbuzov, L.M. Bol- sunovskaya, I.A. Matveenko. Тоmsk: Publishing house of TPU, 2008. 80 p. This tutorial briefly describes main geoecological educational training conduc- tion materials for students from Geoecological Department. Basing on natural and mining – industrial systems this tutorial reveals Geoecological problems of mineral lakes, extractive and processing ore – mining industries and also the attention was paid to the waste fields. The tutorial was prepared by Geoecology and Geochemistry Department, Tomsk Polytechnic University and is intended for students of specialty 013600 “Ge- oecology” (code 020804 in ОКSО-2003). UDK55+502.4(075.8) Recommended for publishing by Publishing council of Tomsk Polytechnic University Reviewers Doctor of Technical Science, professor of TPU А.М. Adam Candidate of Pedagogical Science, associate professor, Head of Foreign Language Department in Engineering and Technology of TPU N.A. Kachalov Candidate of Historical Science, associate professor, Head of English Language Department in Natural and Physical-Mathematical Science of Tomsk State University V.М. Smokotin © Tomsk Polytechnic University, 2008 © Rikhvanov L.P., Jazikov Е.G., Arbuzov S.I., Bolsunovskaya L.M., Matveenko I.A., 2008 © Design. Tomsk Polytechnic University Publishing House, 2008 CONTENT INTRODUCTION .......................................................................................... 4 CHAPTER 1. GEOECOLOGICAL REGION OF EDUCATIONAL TRAINING. GENERAL GEOGRAPHICAL AND GEOLOGICAL CHARACTERISTIC ................................................. -

Industrial Single-Industry Areas, Socio-Economic Development Based on Cluster Approach
Advances in Economics, Business and Management Research, volume 128 International Scientific Conference "Far East Con" (ISCFEC 2020) Industrial Single-Industry Areas, Socio-Economic Development Based on Cluster Approach A N Bikineeva1, O N Nedzelsky2, E N Bulakina2 1GAOU VO"Khakas state University", Russian Federation, Abakan 2Federal STATE Autonomous educational institution, "Siberian Federal University" Russian Federation, Krasnoyarsk E-mail: [email protected] Abstract. The article presents research, socio-economic development of coal-mining areas of the Republic of Khakassia. It is proved that the increasing economic changes, overcoming the crisis phenomena of increasing variability of organizational and technological systems, determine the need to develop new methodological approaches to the assessment of the most important areas of specialization of the industrial region - the coal mining industry. As a priority direction in the process of industry diversification, the authors consider the cluster approach that contributes to the development of industrial areas. Newly created business entities can become a source of new jobs, tax revenues to the budget of single-profile territories. Currently, the project of development of polycentric Abakan-Montenegrin agglomeration is promising. The presence and nature of interaction is manifested in the intensity of labor and economic migration (labor and capital) between settlements. Particular attention is paid to the control of the implementation of innovation-oriented management strategy, -

Hygienic Assessment of Foods Quality and Safety Within the Territory of the Khakas Republic1
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE В мире научных открытий, Том 9, №3, 2017 19 DOI: 10.12731/wsd-2017-3-19-24 UDC 613.2 HYGIENIC ASSESSMENT OF FOODS QUALITY AND SAFETY WITHIN THE TERRITORY OF THE KHAKAS REPUBLIC1 Kondrashova E.A. The paper presents the results of the research within the territory of the Khakas Republic of foods in terms of chemical safety indicators. The rate of non-oncogenic risk in relation to food consumption was determined as well as the analysis of alimentary-dependent diseases levels was carried out. A num- ber of suggestions aimed at reducing dietary risk factors were made. Keywords: foods; alimentary-dependent pathology rate; nitrates; chemical safety; risk assessment; contaminant exposure; danger coefficient. Г И Г И Е Н И Ч Е С К А Я О Ц Е Н К А К АЧ Е С Т ВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПрОдуктов питания НА ТЕрриторИИ рЕСПуБлИКИ Хакасия Кондрашова Е.А. В статье отражены результаты исследований на территории Ре- спублики Хакасия продуктов питания по показателям химической без- опасности. Установлена величина неканцерогенного риска в связи с по- треблением пищевых продуктов. Приведен анализ уровней алиментарно- зависимой заболеваемости. Изложены предложения по снижению али- ментарных факторов риска. Ключевые слова: продукты питания; алиментарно-зависимая забо- леваемость; нитраты; химическая безопасность; оценка риска; экспо- зиция контаминантом; коэффициент опасности. 1 Кондрашова Е.А. Гигиеническая оценка качества и безопасности продуктов питания на территории Республики Хакасия // В мире научных открытий, 2016. № 3(75). С. 20–26. doi:10.12731/wsd-2016-3-2. 20 Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Vol 9, №3, 2017 Environment, diet as well as lifestyle are considered to be significant fac- tors to affect public health. -

Subject of the Russian Federation)
How to use the Atlas The Atlas has two map sections The Main Section shows the location of Russia’s intact forest landscapes. The Thematic Section shows their tree species composition in two different ways. The legend is placed at the beginning of each set of maps. If you are looking for an area near a town or village Go to the Index on page 153 and find the alphabetical list of settlements by English name. The Cyrillic name is also given along with the map page number and coordinates (latitude and longitude) where it can be found. Capitals of regions and districts (raiony) are listed along with many other settlements, but only in the vicinity of intact forest landscapes. The reader should not expect to see a city like Moscow listed. Villages that are insufficiently known or very small are not listed and appear on the map only as nameless dots. If you are looking for an administrative region Go to the Index on page 185 and find the list of administrative regions. The numbers refer to the map on the inside back cover. Having found the region on this map, the reader will know which index map to use to search further. If you are looking for the big picture Go to the overview map on page 35. This map shows all of Russia’s Intact Forest Landscapes, along with the borders and Roman numerals of the five index maps. If you are looking for a certain part of Russia Find the appropriate index map. These show the borders of the detailed maps for different parts of the country. -
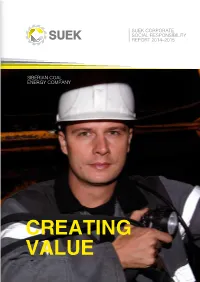
CSR Report 2014-2015
SUEK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2014–2015 SIBERIAN COAL ENERGY COMPANY CREATING VALUE SUEK corporate social responsibility report 2014–2015 AboUT ThE REpoRT SUEK’s 2014–2015 Social Report is the sixth corporate social responsibility report for our Humanity’s need for accessible and reliable fuel is company. SUEK has been publishing reports since continuously growing. It increases as the world population 2006 that represent the main directions of the grows and as the global industry grows, and is particularly company and the results of solving its production relevant for remote and less developed regions, where there is still limited access to electricity. and economic issues, as well as social and environmental problems. By producing and supplying coal, the most accessible and cheapest energy source, to our customers in Russia and around the world, we make our contribution to this critical We think that it is fundamentally version). The GRI Content Index need. At the same time, we are constantly working to The report went through an important to regularly provide this is provided in Appendix 1 on page 173 external audit and received public improve the level of industrial and environmental safety of type of information to a wide range of the Report. The report presents assurance. To read more about this report and about our approach our operations. of stakeholders and all those who data on the SUEK Group (referred to reporting on corporate social would like to make an informed to in the Report as SUEK and the responsibility and sustainability, see We remain an important factor of social stability for our opinion about the results of our Company) for the calendar years page 40. -

Sergei Filatov & Lawrence Uzzell, "Religious Life in Siberia: the Case of Khakasia,"
Religion, State & Society, Vol. 28, No. 1,2000 Religious Life in Siberia: The Case of Khakasia SERGEI FILATOV & LAWRENCE UZZELL Russia and the world at large have recently been seeing the evolution of particular regional political and economic situations. So far, however, no one has taken full note of the large variations in the nature and level of religiosity and the role of religion in the various regions in Russia. One of the least understood areas is the religious life of Siberia, which has been obscured by myths and prejudices. In contrast to the situation in the United States, most of the Russian pioneers who populated new territories beyond the Urals were not very religious. The first settlers included many exiles and social outcasts, people on the margins of society. The government officials who ended up in Siberia usually had relatively low qualifica tions and standards of behaviour. The surviving written accounts by travellers and local Siberian authors describe the Siberian population of the seventeenth and eighteenth centuries at a low level of religiosity and morality. One of the main features of religious life in Siberia from the time of the first settlers to the present day has been the weakness of the Orthodox Church. It is not simply a question of lack of priests and the extreme size of the dioceses. Historical accounts tell of the extremely low moral, spiritual and educational level of the priest hood. With rare exceptions, religious activists, ascetics and educated clergy did not seek a life in this frozen and remote region, preferring to remain in European Russia, 'Holy Rus", whose very stones witnessed to a Christian heritage. -
Russian Monotowns Delgir Maksimova [email protected]
Master Program in Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics Russian Monotowns Delgir Maksimova [email protected] Abstract: Monofunctional towns of Russia represent the extreme case of specialized settlements where the socio-economic development mostly or fully depends on the performance of one or a few town-forming enterprises. This phenomenon obtained attention after the Soviet Union collapse, which has resulted in worsening of the socio-economic situation in monotowns. However, since the 2000s the differentiation in the development among monofunctional towns was observed. What can condition such differentiation? In this study an attempt to provide a new perspective, through which monotowns can be studied. The analysis is done in the step- wise manner and based on the developed data matrix and taxonomy of monotowns. Key words: monotowns, monofunctional towns, agglomeration, specialization, lock-ins, functional classification EKHM51 Master's Thesis (15 ECTS) June 2015 Supervisor: Karl-Johan Lundquist Examiner: Jonas Ljungberg Word Count: 15 883 Website www.ehl.lu.se TABLE OF CONTENTS Table of Contents ............................................................................................................................ 1 List of Figures ................................................................................................................................. 2 List of Tables .................................................................................................................................. 3 1. Introduction -

Uc Rusal 2016
UC RUSAL SUSTAINABILITY REPORT 2016 – 1 – TABLE OF CONTENTS CEO’S ADDRESS 2 ABOUT THE COMPANY 4 CORPORATE GOVERNANCE 7 Corporate governance system 7 Internal control 10 Risk management system 15 Ethics and human rights 18 PERFORMANCE MANAGEMENT 23 Quality management system 23 UC RUSAL business system 26 Supply chain 30 STRATEGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 41 Strategy 41 Management of the aspects of sustainable development 44 Interaction with stakeholders 47 SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 52 Management approach 52 Process and products 54 ENVIRONMENT PROTECTION 57 Approach 57 Management structure 59 Land and biodiversity 61 Water resources 65 Energy consumption 67 Air emissions 68 Climate change 72 Waste 77 Investments in environmental protection 81 Plans for 2017 and medium term 82 WORK SAFETY 84 Management system 84 Approach 86 Actions 90 Performance results 92 Occupational medicine 96 Plans for 2017 and medium term 100 UC RUSAL objectives in the area of health and safety 100 EMPLOYEES 101 Management approach 101 Social partnership 101 Employee communication mechanisms 102 Staff structure and personnel movement 103 Provision with labour resources 106 Education and development 110 Motivation and remuneration 115 Social support 116 INVESTING IN COMMUNITY DEVELOPMENT 118 Management approach 118 Participation in the development of the territories of operation 120 Management of social programmes in Russia 121 Implementation of social programmes in the Russian Federation 122 Social investments abroad 128 ABOUT THE REPORT 133 – 1 – CEO’S ADDRESS Dear friends, I am happy to present UC RUSAL’s 2016 Sustainability Report. Our Company is a leader of one of the world’s largest and most dynamically developing industries. -

“HURTUYAH-TAS AÇIK HAVA MÜZESİ” ÖRNEĞİ Museums and Shamanism: the Sample “Hurtuyah-Tas Open Air Museum”
MÜZELER ve ŞAMANİZM: “HURTUYAH-TAS AÇIK HAVA MÜZESİ” ÖRNEĞİ Museums and Shamanism: The Sample “Hurtuyah-Tas Open Air Museum” Abdülsselam ARVAS1 -------------------------- Geliş:18.05.2017 / Kabul:20.10.2017 DOI: 10.29029/busbed.314805 Öz Günümüzde, müze kavramı olayları ve hatta nesneleri içerecek şekilde genişlemiştir. Müze anlayışının değişimiyle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde “kukla müzesi”, “müzik aletleri müzesi”, “eski ev gereçleri müzesi” gibi pek çok müzeler kurulmuştur. Bu eğilime uygun olarak, açık hava müzeleri sadece nesnelerin sergilendiği yer değil, aynı zamanda insanların belirli bir kültürün her alanıyla bağlantı kurmasını sağlayan mekânlar olmuştur. Bu bağlamda “Hurtuyah-Tas Açık Hava Müzesi”, Güney Sibirya’daki Türklerin etnik bir grubu olan Hakaslar için önemli bir mekândır. Yüzyıllardır Hakaslar, “Tas-İne”nin (Taş Anne) yardımını talep etmek ve kısırlığa karşı dua etmek için Hurtuyah-Tas’a gelmektedir. Bu heykel, Hakaslar tarafından doğurganlık ve bolluğun sembolü olarak kabul edilmektedir. Şamanın yardımıyla, aile yapılan ritüel ve dualar aracılığıyla çocuk istemektedir. Eski zamanlardan beri mevcut olan “Tas-İne” artık bir “camekan” içinde korunmaktadır. Ayrıca, Hakasya’nın en önemli simgelerinden biri olarak kabul edilen heykel korumaya alınmış ve bu amaçla bir açık hava müzesi kurulmuştur. Bu makalenin amacı, Hakasya’daki “Hurtuyah-Tas Açık Hava Müzesi”ne dikkat çekmektir. Anahtar Kelimeler: Hakasya, Hakaslar, müze, Şamanizm, ritüel. 1 Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, e-mail: [email protected]. 57 Abdülsselam Arvas, Müzeler ve Şamanizm: “Hurtuyah-Tas Açık Hava Müzesi” Örneği Abstract Nowadays the concept of a museum has expanded to include events and even objects. As a result, one may see a wide array of museums in different parts of world dedicated to sundry items and activities, such as puppets, musical instruments, vintage household appliances, as well as many other objects. -

CHAPTER FOUR What Is Siberia to Russia?
Durham E-Theses Russia's Great Power Ambitions: The Role of Siberia, the Russian Far East, and the Arctic in Russia's Contemporary Relations with Northeast Asia CONTRERAS-LUNA, RAFAEL How to cite: CONTRERAS-LUNA, RAFAEL (2016) Russia's Great Power Ambitions: The Role of Siberia, the Russian Far East, and the Arctic in Russia's Contemporary Relations with Northeast Asia, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/12034/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 RUSSIA’S GREAT POWER AMBITIONS: THE ROLE OF SIBERIA, THE RUSSIAN FAR EAST, AND THE ARCTIC IN RUSSIA’S CONTEMPORARY RELATIONS WITH NORTHEAST ASIA ________________________________________________________________________ Rafael Contreras Luna Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy School of Government and International Affairs Durham University 2016 i ABSTRACT Being at the confluence of two worlds – East and West – has had long-term influence on how Russia has thought of its national identity, in particular prompting the question: to what extent is it joining or resisting these two worlds? This thesis argues that Russia’s self- perception of being a great power – greatpowerness - defines its status and position in the world. -

Annual Report 2020 Annual Report 2020 20 Years Moving Forward
20 YEARS MOVING FORWARD ANNUAL REPORT 2020 ANNUAL REPORT 2020 20 YEARS MOVING FORWARD Contents Financial and Production Indicators 2 General Information on the Company 6 Chairman’s Statement 14 General Director’s Review 18 Business Overview 22 Management Discussion and Analysis 48 Profiles of the Board Members, the General 86 Director and Senior Management Report of the Board of Directors 102 Corporate Governance Report 150 Financial Statements 166 Glossary 260 Appendix A 270 Principal Terms of the Shareholders’ Agreement with the Company Appendix B 274 Principal Terms of the Shareholders’ Agreement between Major Shareholders only Appendix С 280 Report on Compliance with the Russian Corporate Governance Code Appendix D 308 Information on material transactions concluded by the Company and its significant subsidiaries in 2020 Information on the Company 314 Annual report RUSAL 2020 Leading THE INDUSTRY 01. FINANCIAL AND PRODUCTION INDICATORS 2 3 Annual report RUSAL 2020 FINANCIAL AND PRODUCTION INDICATORS USD million (unless otherwise specified) 2020 2019 2018 2017 2016 Revenue 8,566 9,711 10,280 9,969 7,983 Adjusted EBITDA 871 966 2,163 2,120 1,489 Adjusted EBITDA Margin 10.2% 9.9% 21.0% 21.3% 18.7% EBIT 279 87 1,481 1,523 1,068 Share of Profits from Associates and 976 1,669 955 620 848 Joint Ventures Pre-Tax Profit 716 1,054 1,953 1,288 1,354 Profit 759 960 1,698 1,222 1,179 Profit Margin 8.9% 9.9% 16.5% 12.3% 14.8% Adjusted Net (Loss)/Profit 60 (270) 856 1,077 292 Adjusted Net (Loss)/Profit Margin 0.7% (2.8%) 8.3% 10.8% 3.7% Recurring Net Profit 990 1,273 1,695 1,573 959 Basic Earnings Per Share 0.050 0.063 0.112 0.080 0.078 (in USD) Total Assets 17,378 17,814 15,777 15,774 14,452 Equity Attributable to Shareholders of 6,543 6,747 5,209 4,444 3,299 the Company Net Debt 5,563 6,466 7,442 7,648 8,421 4 FINANCIAL AND PRODUCTION INDICATORS 5 Annual report RUSAL 2020 Uniting PEOPLE ACROSS CONTINENTS 02. -

The Impact of the Accident on Sayano-Shushenskaya Dam: an Application of Synthetic Control Method
The Impact of the Accident on Sayano-Shushenskaya Dam: an Application of Synthetic Control Method Zhanna Kholchevskaya Universitat de Barcelona - UB School of Economics Advisor: Germà Bel Universitat de Barcelona __________________________________________________________________________________ Abstract The aim of this paper is to investigate an economic impact of the technological accident happened in 2009 on Sayano-Shushenskaya hydroelectric power station on Khakassia, the region where this dam is located. In order to conduct it, the synthetic control method, first introduced by Abadie and Gadeazabal (2003), was applied. The disaster on Sayano-Shushenskaya dam is the most significant disaster that happened recently on hydroelectric station in Russia and caused deaths of the workers, economic and energetic losses, and ecological consequences. However, in this research, it was discovered that this catastrophe had a positive non-significant influence on Gross Regional Product (GRP) per capita of Khakassia. Such economic effect could be explained by a specific of this technological disaster, an inflow of investments and a good coordination of emergency operations. Keywords: Sayano-Shushenskaya Dam, Synthetic Control Method, Khakassia, Economic Effect. JEL: C20, O13, Q40. __________________________________________________________________________________ 1. Introduction Technological disaster is known as an accident, which emerges because of a breakage in technology system or a human error in its control. Such type of a disaster can be considered as one of the most dangerous and destructive accidents in a modern world, which can lead to social, economic and ecological consequences. Therefore, there is an assumption that technological catastrophes have negative effect on the economy. In many cases, such accidents are largescale and happen suddenly, so they can cause great losses quickly.