Proceedings of the International Workshop on Rehabilitation and Reintroduction of Large Carnivores
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Accents in Russia Rostov Region
ОГЛАВЛЕНИЕSPOTLIGH ON ROSTOV REGION ОГЛАВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО . 3 КАНАЕВА В. М. ИСТОРИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ . 4 АНДРИЯНОВА Е. Д. МАМЕДОВА С. И. ПРИХОДЬКО Е. П. ВЫДАЮЩИЕ ЛИЧНОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ . 7 ГУЛАКОВА И. П. ЖУРАВКОВА В. А. КОНОНОВА Т. В. КОРОТЕНКО Н. Н. КУЧЕРЯВАЯ А. С. ПАНИНА Л. М. ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ . 14 АНДРИЯНОВА Е. Д., КУЗНЕЦОВА С. В. БИРЮКОВА А. А., САЛАМАТИНА М. В. ВЕНИКОВА Н. Н. ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ . 17 БОЧКАРЕВА Т. В. ДОЛГОПОЛЬСКАЯ И. Б. ПРОХОРОВА О. И. ХИЖНЯКОВА Л. Г. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ . 22 МАЯЦКАЯ И. Г. ПЕШЕХОДЬКО Т. А. САРУХАНЯН С. А. ТОЛОК С. В. ШЕИНА Т. И. ПРИРОДА И ЖИВОТНЫЙ МИР РЕГИОНА . 27 ДВОРЯДКИНА Л. Н. ДОЖДИКОВА А. И. КОНДРАТЕНКО О. Н., СУЩЕНКО Ю. Н. МАНУИЛОВА С. В. 2 ПРОСВЕЩЕНИЕ - Иностранные языки «В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека Необходимо обеспечить воспитание гармонично развитой и социально - ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.» Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Москва, 7 мая 2018г., №204) Уважаемые коллеги! Стратегии прорывного развития России 21 века определяют сферу образования как ведущий социальный институт формирования будущего нашей страны. В условиях агрессивной глобализации мирового образовательного пространства, роботизацию технологий взаимодействия людей, процессов, вытесняющих из современного бытия Человека, созидающего национальную культуру, духовность, гражданственность, «Россия встаёт во весь рост… через воспитание в народе духовного характера», дабы «не быть иностранцами в своём Отечестве…» (К.Д.Ушинский). -

Transboundary Cooperation for Nature Conservation World Trends and Ways Forward in Northeast Asia
NEASPEC WORKING PAPER Transboundary Cooperation for Nature Conservation World Trends and Ways Forward in Northeast Asia February 2015 This working paper was prepared by Alexandre Edwardes, intern for NEASPEC, under the supervision of Sangmin Nam, Deputy Head, East and North-East Asia Office of the ESCAP. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. This paper follows United Nations practice in references to countries. Where there are space constraints, some country names have been abbreviated. Transboundary Cooperation for Nature Conservation Alexandre Edwardes Transboundary Cooperation for Nature Conservation World Trends and Ways Forward in Northeast Asia (May 2015) Table of Contents 1. Introduction ........................................................................................................................................... 3 2. Transboundary Conservation Initiatives Worldwide ............................................................................. 4 a. Brief history and current trends in transboundary conservation ...................................................... 4 b. Definitions and designations of transboundary conservation initiatives .......................................... 5 • Transboundary Protected Areas .................................................................................................... -

Informational Issue of Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums
147 GOVERNMENT OF MOSCOW COMMITTEE FOR CULTURE EURASIAN REGIONAL ASSOCIATION OF ZOOS & AQUARIUMS MOSCOW ZOO INFORMATIONAL ISSUE OF EURASIAN REGIONAL ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS ISSUE № 34 VOLUME I ________________ MOSCOW – 2015 – 148 The current issue comprises information on EARAZA member zoos and other zoological institutions. The first part of the publication includes collection inventories and data on breeding in all zoological collections. The second part of the issue contains information on the meetings, workshops, trips and conferences which were held both in our country and abroad, as well as reports on the EARAZA activities. Chief executive editor Vladimir Spitsin President of Moscow Zoo Compiling Editors: Т. Andreeva V. Frolov N. Karpov L. Kuzmina V. Ostapenko T. Vershinina Translators: A. Simonova, N. Stavtseva © 2015 Moscow Zoo 149 Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA) 123242 Russia, Moscow, Bolshaya Gruzinskaya 1. Telephone/fax: (499) 255-63-64 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Web: www.earaza.ru EARAZA Chairman: Vladimir V. Spitsin President of Moscow Zoo, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences Members of the presidium: Vladimir V. Fainstein Deputy Director for science of Tallinn Zoo Alexander P. Barannikov Director of Rostov Zoo Aleksei P. Khanzazuk Director of Kishinev Zoo Premysl Rabas Director of Dvur Kralove Zoo Vladimir N. Topchii Director of Nikolaev Zoo Martin Hovorka Director of Brno Zoo Executive Office: Executive Director: Vladimir E. Frolov, Head of the Scientific-Methodological Department of Moscow Zoo Chief Accountant: Oksana S. Afanas’eva 150 Senior Methodist: Tatyana F. Andreeva Senior Methodist of the Scientific-Methodological Department of Moscow Zoo Tatyana A. -

RCN #33 21/8/03 13:57 Page 1
RCN #33 21/8/03 13:57 Page 1 No. 33 Summer 2003 Special issue: The Transformation of Protected Areas in Russia A Ten-Year Review PROMOTING BIODIVERSITY CONSERVATION IN RUSSIA AND THROUGHOUT NORTHERN EURASIA RCN #33 21/8/03 13:57 Page 2 CONTENTS CONTENTS Voice from the Wild (Letter from the Editors)......................................1 Ten Years of Teaching and Learning in Bolshaya Kokshaga Zapovednik ...............................................................24 BY WAY OF AN INTRODUCTION The Formation of Regional Associations A Brief History of Modern Russian Nature Reserves..........................2 of Protected Areas........................................................................................................27 A Glossary of Russian Protected Areas...........................................................3 The Growth of Regional Nature Protection: A Case Study from the Orlovskaya Oblast ..............................................29 THE PAST TEN YEARS: Making Friends beyond Boundaries.............................................................30 TRENDS AND CASE STUDIES A Spotlight on Kerzhensky Zapovednik...................................................32 Geographic Development ........................................................................................5 Ecotourism in Protected Areas: Problems and Possibilities......34 Legal Developments in Nature Protection.................................................7 A LOOK TO THE FUTURE Financing Zapovedniks ...........................................................................................10 -

Moss Diversity Distribution Patterns and Agglomerates of Local Floras in the Russian Far East
Botanica Pacifica. A journal of plant science and conservation. 2017. 6(2): 21–33 DOI: 10.17581/bp.2017.06201 Moss diversity distribution patterns and agglomerates of local floras in the Russian Far East Olga Yu. Pisarenko 1* & Vadim A. Bakalin 2 Olga Yu. Pisarenko1* ABSTRACT email: [email protected] Published materials on the mosses of the Russian Far East are summarized. Nine Vadim A. Bakalin 2 hund red and thirty species of mosses were revealed, and a bibliography is provi email: [email protected] ded for each taxon. The distribution of each taxon within 39 spatial units (5×5 de grees latitude/longitude) is analyzed. The list for each square was regarded 1 Central Siberian Botanical Garden, SB as the flo ra of minimal size involved in analysis. Analysis of interrelationships RAS, Novosibirsk 630090 Russia be tween each minimal flora has revealed seven floristic associations that corres 2 Botanical GardenInstitute FEB RAS, pond to the following territories: Beringian Chukotka, the continental part of Vladivostok 690024 Russia Chu kotka Autonomous District and continental part of Magadan Province, nor thern coast of the Sea of Okhotsk, Kamchatka and adjacent islands, Sakhalin and southern Kurils, Russian Manchuria, and the rest part of continental sou thern Russian Far East. Centers of moss species diversity are considered. * corresponding author Keywords: Russian Far East, mosses, bryoflora, distribution patterns, diversity, con servation, phytogeography Manuscript received: 17.02.2017 РЕЗЮМЕ Review completed: 13.09.2017 Писаренко О.Ю., Бакалин В.А. Закономерности распространения Accepted for publication: 18.09.2017 раз нообразия мхов и естественные агломераты локальных моховых Published online: 19.09.2017 флор на российском Дальнем Востоке. -

Hymenoptera, Vespidae) Орхон-Селенгинской Впадины Монголии
1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Бурятский государственный университет На правах рукописи БАТЧУЛУУН БУЯНЖАРГАЛ ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ СКЛАДЧАТОКРЫЛЫХ ОС (HYMENOPTERA, VESPIDAE) ОРХОН-СЕЛЕНГИНСКОЙ ВПАДИНЫ МОНГОЛИИ 03.02.08 — экология Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор Ц. З. Доржиев Иркутск — 2016 2 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………. 4 Глава 1. СКЛАДЧАТОКРЫЛЫЕ ОСЫ СЕМЕЙСТВА VESPIDAE (HYMENOPTERA) И ИСТОРИЯ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 1.1. Краткая характеристика складчатокрылых ос…………………….. 9 1.1.1. Общие сведения о складчатокрылых осах (Vespidae)... 9 1.1.2. Одиночные складчатокрылые осы подсемейств Masarinae и Eumeninae………………………………………… 11 1.1.3. Общественные складчатокрылые осы подсемейств Polistinae и Vespinae……………………………………………. 14 1.2. История изучения складчатокрылых ос в Монголии…………….. 17 Глава 2. РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 2.1. Особенности природных условий района исследований…………. 21 2.2. Материал и методы…………………………………………………... 28 Глава 3. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ СКЛАДЧАТОКРЫЛЫХ ОС ОРХОН-СЕЛЕНГИНСКОЙ ВПАДИНЫ 3.1 Краткий анализ таксономического состава складчатокрылых ос Vespidae Монголии………………………………………………………. 36 3.2 Таксономический состав и распространение складчатокрылых ос Орхон-Селенгинской впадины (аннотированный список)………………… 37 3.3 Внутрипопуляционные социальные группы и их соотношение в фауне веспид …………………………………………………………… 72 3.4 Ареалогический анализ ……………………………………………. 72 3.4.1. -

Îõðàíÿåìûå Ïðèðîäíûå Òåððèòîðèè(Àíãë).Pm6
PROTECTED AREAS IN RUSSIA: LEGAL REGULATION Moscow v 2003 2 Protected Areas in Russia: Legal Regulation. An Overview of ederal Laws. Edited by A.S.Shestakov. KMK Scientific Press Ltd., Moscow, 2003. xvi + 352 p. Reviewer: Dr. O.A.Samonchik, Devision of Agrarian and Land Laws, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences G.A. Kozulko, international expert on protected areas, Chief of the Belovezhskaya Puzha XXI Century Public Initiative This research and publication have been made possible by funding from The Service for Implementation of National Biodiversity Strategies and Action Plans (Biodiversity Service) established by a consortium of United Nations Environment Programme (UNEP), the World Conservation Union (IUCN), the European Centre for Nature Conservation (ECNC) and the Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (REC) ã 2003 WW Russia ã 2003 M.L.Kreindlin, A.V.Kuznetcova, V.B.Stepanitskiy, A.S.Shestakov, ISBN 5-87317-132-7 E.V.Vyshegorodskih 3 LIST O ACRONIMS ATNM area of traditional nature management of indigenous peoples of the North, Siberia and the ar East of the Russian ederation IUCN The World Conservation Union MNR Ministry of Natural Resources of the Russian ederation NP national park PA protected area R Russian ederation SPNA specially protected natural area SSNR state strict nature reserve (zapovednik) WW World Wide und for Nature 4 TABLES AND IGURES Tables: Table 1. Number and Area of Specially Protected Natural Areas in Russia (as of the beginning of 2003) Table 2. Matrix of Management Purposes of Specially Protected Natural Areas of Russia Table 3. Proposals for Establishing State Strict Nature Reserves and National Parks in the Russian ederation for 2001-2010 Table 4. -
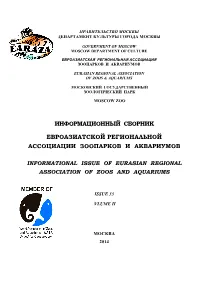
0Db570ad569a08f8f6772559dcb
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ GOVERNMENT OF MOSCOW MOSCOW DEPARTMENT OF CULTURE ЕВРОАЗИАТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ EURASIAN REGIONAL ASSOCIATION OF ZOOS & AQUARIUMS МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК MOSCOW ZOO ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК ЕВРОАЗИАТСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЗООПАРКОВ И АКВАРИУМОВ INFORMATIONAL ISSUE OF EURASIAN REGIONAL ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS ISSUE 33 VLUME II МОСКВА 2014 2 OVERNMENT OF MOSCOW COMMITTEE FOR CULTURE EURASIAN REGIONAL ASSOCIATION OF ZOOS & AQUARIUMS MOSCOW ZOO INFORMATIONAL ISSUE OF EURASIAN REGIONAL ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS ISSUE № 33 VOLUME II ________________ MOSCOW – 2014 – 3 The current issue comprises information on EARAZA member zoos and other zoological institutions. The first part of the publication includes collection inventories and data on breeding in all zoological collections. The second part of the issue contains information on the meetings, workshops, trips and conferences which were held both in our country and abroad, as well as reports on the EARAZA activities. Chief executive editor Vladimir Spitsin President of Moscow Zoo Compiling Editors: Т. Andreeva V. Frolov N. Karpov L. Kuzmina V. Ostapenko V. Sheveleva T. Vershinina Translators: A. Simonova © 2014 Moscow Zoo 4 Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA) 123242 Russia, Moscow, Bolshaya Gruzinskaya 1. Telephone/fax: (499) 255-63-64 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Web: www.earaza.ru EARAZA Chairman: Vladimir V. Spitsin President of Moscow Zoo, Correspondent Member of the Russian Academy of Natural Sciences Members of the presidium: Vladimir V. Fainstein Deputy Director for Zoovet of Tallinn Zoo Alexander P. Barannikov Director of Rostov Zoo Aleksei P. Khanzazuk Director of Kishinev Zoo Premysl Rabas Director Zoo Dvur Kralove nad Labem Vladimir N. -

Comparison of Fuzzy Logic and Boolean Methods In
EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE (Peer Reviewed Open Access Journal) Published by Federation of Eurasian Soil Science Societies EDITORS-IN-CHIEF Dr.Rıdvan KIZILKAYA Dr.Evgeny SHEIN Dr.Coşkun GÜLSER Ondokuz Mayıs University, Turkey Moscow State University, Russia Ondokuz Mayıs University, Turkey EDITORIAL BOARD SCIENTIFIC EDITORS Dr.Amrakh I. MAMEDOV, Azerbaijan Dr.Alexander MAKEEV, Russia Dr.Brijesh Kumar YADAV, India Dr.Benyamin KHOSHNEVİSAN, China Dr.Carla FERREIRA, Sweden Dr.Fariz MIKAILSOY, Turkey Dr.Guilhem BOURRIE, France Dr.Füsun GÜLSER, Turkey Dr.Guy J. LEVY, Israel Dr.Galina STULINA, Uzbekistan Dr.Gyozo JORDAN, Hungary Dr.H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, Turkey Dr.Haruyuki FUJIMAKI, Japan Dr.İzzet AKÇA, Turkey Dr.Hayriye IBRIKCI, Turkey Dr.János KÁTAI, Hungary Dr.İbrahim ORTAŞ, Turkey Dr.Lia MATCHAVARIANI, Georgia Dr.Jae YANG, South Korea Dr.Marketa MIHALIKOVA, Czech Republic Dr.Jun YAO, China Dr.Maja MANOJLOVIC, Serbia Dr.Mohammad A. HAJABBASI, Iran Dr.Niyaz Mohammad MAHMOODI, Iran Dr.Nicolai S. PANIKOV, USA Dr.Pavel KRASILNIKOV, Russia Dr.Shamshuddin JUSOP, Malaysia Dr.Ramazan ÇAKMAKCI, Turkey Dr.Sokrat SINAJ, Switzerland Dr.Ritu SINGH, India Dr.Tatiana MINKINA, Russia Dr.Saglara MANDZHIEVA, Russia Dr.Vít PENIZEK, Czech Republic Dr.Saoussen HAMMAMI, Tunusia Dr.Yakov PACHEPSKY, USA Dr.Srdjan ŠEREMEŠİĆ, Serbia Dr.Yury N. VODYANITSKII, Russia Dr.Velibor SPALEVIC, Montenegro DIVISION EDITORS ADVISORY EDITORIAL BOARD Dr.Aminat UMAROVA, Soil Physics and Mechanic, Russia Dr.Ajit VARMA, India Dr.David PINSKY, Soil Chemistry, Russia Dr.David MULLA, -

Securing a Future for Amur Leopards and Tigers in Russia
Securing a Future for Amur Leopards and Tigers in Russia – VI 2018 Final Report Phoenix Fund 1 Securing a Future for Amur Leopards and Tigers in Russia – VI • 2018 Final Report TABLE OF CONTENTS Background ................................................................................................................................................... 2 Project Summary ........................................................................................................................................... 3 Project Activities............................................................................................................................................ 4 SMART in five protected areas .................................................................................................................. 4 Annual workshop for educators ................................................................................................................ 8 Education in Khasan, Lazo, Terney and Vladivostok ................................................................................. 9 Tiger Day in Primorye .............................................................................................................................. 11 Art Contest .............................................................................................................................................. 13 Photo credits: PRNCO “Tiger “Centre”, Far Eastern Operational Customs Office, Land of the Leopard National Park, Alexander Ratnikov, and children's paintings -

Moscow 2019 A.N
Moscow 2019 A.N . SEVERTSOV INSTITUTE OF ECOLOGY AND EVOLUTION OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES PERMANENT EXPEDITION OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES FOR STUDY OF RUSSIAN RED DATA BOOK ANIMALS AND OTHER KEY ANIMALS OF RUSSIAN FAUNA Rozhnov V.V., Yachmennikova A.A., Hernandez-Blanco J.A., Naidenko S.V., Chistopolova M.D., Sorokin P.A., Dobrynin D.V., Sukhova O.V., Poyarkov A.D., Dronova N.A., Trepet S.A., Pkhitikov A.B., Pshegusov R.H., Magomedov M.-R.D. STUDY AND MONITORING OF BIG CATS IN RUSSIA KMK Scientific Press Moscow 2019 Rozhnov V.V., Yachmennikova A.A., Hernandez-Blanco J.A., Naidenko S.V., Chisto- polova M.D., Sorokin P.A., Dobrynin D.V., Sukhova O.V., Poyarkov A.D., Drono- va N.A., Trepet S.A., Pkhitikov A.B., Pshegusov R.H., Magomedov M.-R.D. Study and Monitoring of Big Cats in Russia. Moscow: KMK Scientific Press Ltd., 2019. 138 p. This monograph provides a comprehensive review and analysis of the available litera- ture on the monitoring of big cats. Special attention is paid to the most up-to-date methods based on recent advances in technology, resulting in useful tools to remotely and non- invasively study animals in natural habitats, essential when working with rare species. Existing large- and small-scale approaches to monitoring big cats are described. Methods of monitoring the habitat conditions of the species and their dynamics, as well as the basics of modeling territories with suitable conditions for leopards, are suggested. The whole range of field sampling methods that enable data to be processed using contempo- rary techniques is described. -

Биота И Среда Заповедных Территорий Issn 2618-6764 Научный Рецензируемый Журнал 2018, № 1 Журнал Основан В 2013 Году, Издаётся С 2014 Года
БИОТА И СРЕДА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ISSN 2618-6764 НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 2018, № 1 Журнал основан в 2013 году, издаётся с 2014 года. В 2014-2017 гг. имел название «Биота и среда заповедников Дальнего Востока. Biodiversity and Environment of Far East Reserves» (ISSN 2227-149X). Учредители: Дальневосточное отделение Российской академии наук и «Дальневосточный морской заповедник» — филиал Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. Редколлегия: главный редактор — Богатов Виктор Всеволодович, член-корр. РАН, проф., главный учёный секретарь, Дальневосточное отделение РАН (ДВО РАН), Владивосток; зам. главного редактора — Дроздов Анатолий Леонидович, проф., гнс, Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ ДВО РАН), Владивосток; отв. секретарь редколлегии — Тюрин Алексей Николаевич, и. о. зав. редакцией журнала, вед. инж., «Дальневосточный морской заповедник» — филиал ННЦМБ ДВО РАН; Богачёва Анна Вениаминовна, снс, Федеральный научного центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (ФНЦБ ДВО РАН), Владивосток; Боркин Лев Яковлевич, снс, Зоологический институт РАН (ЗИН РАН), Санкт-Петербург; Глущенко Юрий Николаевич, проф., Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), филиал в г. Уссурийске; Дьякова Ольга Васильевна, проф., зав. лаб., Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН), Владивосток; Ильин Игорь Николаевич, внс, Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Москва; Нечаев Виталий Андреевич , внс, ФНЦБ ДВО РАН, Владивосток; Попов Владимир Константинович, внс, Дальневосточный геологический институт ДВО РАН (ДВГИ ДВО РАН), Владивосток; Пушкарь Владимир Степанович, проф., зав. лаб., ДВГИ ДВО РАН, Владивосток; Пшеничников Борис Фёдорович, проф., ДВФУ, Владивосток; Разжигаева Надежда Глебовна, зав. лаб., Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (ТИГ ДВО РАН), Владивосток; Рябушко Виталий Иванович, зав. отд., Институт морских биологических исследований имени А. О.