Ksia-239.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kryoneri, Nea Kerdyllia: a Settlement of the Late Neolithic and Early Bronze Age on the Lower Strymon Valley, Eastern Macedonia (Dimitria Malamidou)
TMO TRAVAUX DE LA MAISON DE L’ORIENT List of contributors / Liste des contributeurs 69 ET DE LA MÉDITERRANÉE N° 69 Zoï Tsirtsoni is Researcher at the French National Centre for Scientific Research Vassiliki Adrymi-Sismani, Director Emeritus of the (CNRS), currently in position at the Archaeological Institute for Thessalian Studies THE HUMAN FACE OF RADIOCARBON mixed laboratory Archéologies et Sciences Ioannis Aslanis, National Hellenic Research at Nanterre (UMR 7041). Foundation, Athens Reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC (TMO 69) de l’Antiquité She is a specialist of the Neolithic and Maya Avramova, National Museum of Anthropology, Sofia Bronze Age periods in the Aegean and the Balkans, and codirector of the Greek- Kamen Boyadzhiev, National Institute of Archaeology with Museum, Sofia French research project at the tell of Dikili This volume presents the results of a multidisciplinary research program (“Balkans 4000”) financed by Tash in Northern Greece. Yavor Boyadzhiev, National Institute of Archaeology with Museum, Sofia the French National Research Agency (ANR) and coordinated by the editor between 2007 and 2011, Dimitar Chernakov, Regional Historical Museum when she was a member of the Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Laboratory of Archaeology and Zoï TSIRTSONI, chargée de recherche au CNRS, of Ruse Archaeometry). 192 new radiocarbon dates have been produced in the laboratories of Lyon, Saclay and THE HUMAN FACE est actuellement membre de l’UMR 7041 Stefan Chohadzhiev, Veliko Tarnovo University th Demokritos, from 34 archaeological sites, spanning the years from the end of the 6 to the beginning of Archéologies et Sciences de l’Antiquité à Kleio Dimitriou, Archaeologist the 3rd millennium BC. -

TELL YUNATSITE, BULGARIA Course ID: ARCH 365S July 6-August 3, 2019 DIRECTORS: Asst
SEEKING EUROPE’S FIRST CIVILIZATION: TELL YUNATSITE, BULGARIA Course ID: ARCH 365S July 6-August 3, 2019 DIRECTORS: Asst. Prof. Kamen Boyadzhiev, Archaeologist and Head of Exhibitions Department at the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences; Balkan Heritage Foundation affiliate ([email protected]) Assoc. Prof. Yavor Boyadzhiev, Archaeologist and Associate Professor at the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences; Balkan Heritage Foundation affiliate INTRODUCTION The aim of the project is to provide participants with theoretical background on the development of Neolithic cultures in Southeastern Europe with focus on Final Neolithic/Chalcolithic Europe’s first civilization1 and with practical experience in excavating a complex prehistoric tell-site. During the seventh and sixth millennia BCE, the Balkan Peninsula was a gateway through which farming, animal husbandry and generally Neolithisation spread from Anatolia and the Near East to Europe. This new population gradually settled down and got familiar with the surrounding areas, suitable agricultural areas, raw sources and so on. In the sixth millennium BCE their economy, social organization, trade and cultural contacts evolved, to reach their peak in the fifth millennium BCE. In the beginning of the fifth millennium the earliest metallurgy in European and global prehistory (the processing of copper, and soon after – gold) appeared in the Balkans. Thus, this period is known as Copper age, Chalcolithic or Final Neolithic. The continuative inhabitance of the same suitable places during these millennia led to the formation of a settlement phenomenon, characteristic of the Near Eastern and Balkan prehistory – the multilayered tell-sites. 1 Also known as Civilization of Old Europe. -

The Genomic History of Southeastern Europe
The Genomic History of Southeastern Europe Supplementary Information Contents: Supplementary Note 1: Archaeological and osteological context of newly reported individuals (pages 1-48) Supplementary Note 2: Phenotypically informative markers in hunter-gatherer populations (pages 49-51) Supplementary Note 3: Admixture graph modeling of the relationship among Neolithic populations (pages 52-57) Supplementary Note 1: Archaeological and osteological context of newly reported individuals. This supplement provides archaeological details for individuals that have genome-wide ancient DNA data reported for the first time in this study. They are organized first by present- day country of origin, and then by site. We also provide a brief note describing the Danube Gorges region and approximate chronologies for the Balkan Peninsula and Ukraine. Austria ................................................................................................................... 3 Kleinhadersdorf Flur Marchleiten (2 individuals) .............................................................................. 3 Schletz (4 individuals) ..................................................................................................................................... 3 Bulgaria ................................................................................................................. 4 Beli Breyag (2 individuals) ............................................................................................................................ 4 Dzhulyunitsa (8 individuals) -
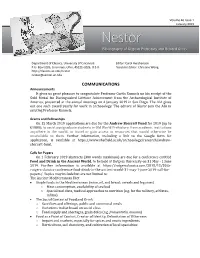
Nestor [email protected]
Volume 46 Issue 1 January 2019 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati Editor: Carol Hershenson P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. Assistant Editor: Christine Wong http://classics.uc.edu/nestor [email protected] COMMUNICATIONS Announcements It gives us great pleasure to congratulate Professor Curtis Runnels on his receipt of the Gold Medal for Distinguished Lifetime Achievement from the Archaeological Institute of America, presented at the annual meetings on 4 January 2019 in San Diego. The AIA gives out one such award yearly for work in archaeology. The editors of Nestor join the AIA in saluting Professor Runnels. Grants and Fellowships On 15 March 2019 applications are due for the Andrew Sherratt Fund for 2019 (up to £1000), to assist postgraduate students in Old World Prehistory, from academic institutions anywhere in the world, to travel or gain access to resources that would otherwise be unavailable to them. Further information, including a link to the Google form for application, is available at https://www.sheffield.ac.uk/archaeology/research/andrew- sherratt-fund. Calls for Papers On 1 February 2019 abstracts (300 words maximum) are due for a conference entitled Food and Drink in the Ancient World, to be held at Rutgers University on 31 May - 1 June 2019. Further information is available at https://rutgersclassics.com/2018/12/30/a- rutgers-classics-conference-food-drink-in-the-ancient-world-31-may-1-june-2019-call-for- papers/. Topics may include but are not limited to: The Ancient Mediterranean Diet • Staple foods in the Mediterranean (wine, oil, and bread; cereals and legumes) o Meat consumption, availability of seafood o Specialized diets, medical approaches to nutrition (e.g. -
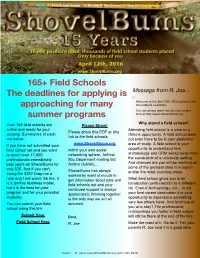
Message from R. Joe... " Welcome to the April 12Th, 2016 Edition of the Approaching for Many Shovelbums Newsletter
INSIDE P1 Field School Update | P8 The Hall Of The Chosen | P3 Gear | P4 Field Schools April 12th, 2016 165+ Field Schools The deadlines for applying is Message from R. Joe... " Welcome to the April 12th, 2016 edition of the approaching for many ShovelBums newsletter. You can always reach me via t≠he contact summer programs form at http://www.ShovelBums.org Why attend a field school?" Over 165 field schools are Please Share! online and ready for your Attending field school is a once in a Please share this PDF or this viewing. Summaries of each lifetime opportunity. A field school does link to the field schools are below. not even have to be in your preferred www.ShovelBums.org If you have not submitted your area of study. A field school is your field school yet and you want within your own social opportunity to understand how to reach over 17,000 networking sphere, Anthro/ archaeology and CRM works away from professionals immediately Soc Deparment mailing list/ the constraints of a university setting. post yours on ShovelBums for Anthro club/etc... And chances are you will be working on only $25. And if you can't some of the greatest sites in a region ShovelBums has always and/or the most stunning areas. swing the $25? Drop me a worked by word of mouth to note and I will waive the fee. it get information about jobs and What field school gives you is an is a terrible business model, field schools out and your introduction (with credits!) to a different but it is the best for your continued support is always life. -

Anthropogenic Sediments and Soils of Tells of the Balkans and Anatolia: Composition, Genesis, and Relationships with the History of Landscape and Human Occupation S
ISSN 1064-2293, Eurasian Soil Science, 2017, Vol. 50, No. 4, pp. 373–386. © Pleiades Publishing, Ltd., 2017. Original Russian Text © S.N. Sedov, A.L. Aleksandrovskii, M. Benz, V.I. Balabina, T.N. Mishina, V.A. Shishkov, F. Şahin, V. Özkaya, 2017, published in Pochvovedenie, 2017, No. 4, pp. 387–400. GENESIS AND GEOGRAPHY OF SOILS Anthropogenic Sediments and Soils of Tells of the Balkans and Anatolia: Composition, Genesis, and Relationships with the History of Landscape and Human Occupation S. N. Sedova, b, c, A. L. Aleksandrovskiid, *, M. Benze, V. I. Balabinaf, T. N. Mishinaf, V. A. Shishkovd, F. Şahing, and V. Özkayag aInstitute of Geology, National Autonomous University of Mexico, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, DF, Mexico bTyumen Industrial University, ul. Volodarskogo 38, Tyumen, 625000 Russia cTyumen State University, ul Volodarskogo 6, Tyumen, 625003 Russia dInstitute of Geography, Russian Academy of Sciences, per. Staromonetnyi 29, Moscow, 119017 Russia eDepartment of Near Eastern Archaeology, Albert Ludwig University, 79085 Freiburg, Germany fInstitute of Archaeology, Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ul’yanova 19, Moscow, 117036 Russia gDicle University, 21280 Diyarbakır, Turkey *е-mail: [email protected] Received June 2, 2016 Abstract—Soils and sediments composing Tell Körtik Tepe (Epipaleolithic, Turkey) and Tell Yunatsite (Chalcolithic (Eneolithic), Bulgaria) have been studied with the aim to gain a better insight into their micro- fabrics, determine the composition of anthropogenic artifacts, and, on this basis, to analyze similarities and distinctions between these objects and the modern soils of urban areas. The methods of micromorphology, scanning electron microscopy with an energy dispersive X-ray microanalyzer, X-ray fluorometry, and other techniques to determine the chemical and physical properties of the soils and sediments have been applied. -
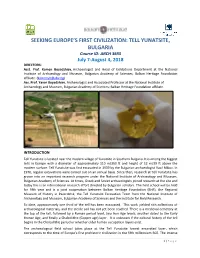
Syllabus-Bulgaria-Yunatsite 2018
SEEKING EUROPE’S FIRST CIVILIZATION: TELL YUNATSITE, BULGARIA Course ID: ARCH 365S July 7-August 4, 2018 DIRECTORS: Asst. Prof. Kamen Boyadzhiev, Archaeologist and Head of Exhibitions Department at the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences; Balkan Heritage Foundation affiliate. ([email protected]) Ass. Prof. Yavor Boyadzhiev, Archaeologist and Associated Professor at the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences; Balkan Heritage Foundation affiliate. INTRODUCTION Tell Yunatsite is located near the modern village of Yunatsite in Southern Bulgaria. It is among the biggest tells in Europe with a diameter of approximately 110 m/360 ft and height of 12 m/39 ft above the modern surface. Tell Yunatsite was first excavated in 1939 by the Bulgarian archaeologist Vasil Mikov. In 1976, regular excavations were carried out on an annual basis. Since then, research at Tell Yunatsite has grown into an important research program under the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences. At times, Greek and Soviet archaeologists joined research at the site and today this is an international research effort directed by Bulgarian scholars. The field school will be held for fifth year and is a joint cooperation between Balkan Heritage Foundation (BHF), the Regional Museum of History in Pazardzhik, the Tell Yunatsite Excavation Team from the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences and the Institute for Field Research. To date, approximately one third of the tell has been excavated. This work yielded rich collections of archaeological materials, and the sterile soil has not yet been reached. -

Lower Danube Conference Pr
THE LOWER DANUBE IN PREHISTORY: LANDSCAPE CHANGES AND HUMAN-ENVIRONMENT INTERACTIONS PUBLICAŢIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN (III) THE LOWER DANUBE IN PREHISTORY: LANDSCAPE CHANGES AND HUMAN-ENVIRONMENT INTERACTIONS Proceedings of the International Conference Alexandria, 3 - 5 November 2010 Edited by Steve Mills and Pavel Mirea Contributors: Sorin Ailincăi, Radian-Romus Andreescu, Douglass W. Bailey, Adrian Bălăşescu, Amy Bogaard, Albane Burens, Glicherie Caraivan, Laurent Carozza, Jean-Michel Carozza, Dimitar Chernakov, Alexandra Comşa, Mihai Ştefan Florea, Georges Ganetzovski, Maria Gurova, Costantin Haită, Andy J. Howard, Cătălin Lazăr, Mark G. Macklin, Boryana Mateva, Florian Mihail, Cristian Micu, Katia Moldoveanu, Alexandru Morintz, Amelia Pannett, Valentin Radu, Ruth A. J. Robinson, Cristian Schuster, Cosmin Ioan Suciu, Cristian Eduard Ştefan, Laurens Thissen, Svetlana Venelinova, Valentina Voinea, Angela Walker Editura Renaissance Bucureşti 2011 PUBLICAŢIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN (III) The International Conference The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interaction was part of the Art-Landscape Transformations EC Project 2007-4230, Cardiff University partner scenario Măgura Past and Present funded by the European Union. Organising Committee: Professor Douglass W. Bailey, Chairman (San Francisco State University), Dr. Steve Mills, Vice-chairman (Cardiff University), Dr. Radian-Romus Andreescu, Vice-chairman (Romanian National History Museum, Bucharest), Dr. Cristian Schuster, Vice-chairman (‘Vasile Pârvan’ Institute of Archaeology, Bucharest), Drd. Pavel Mirea, Secretary (Teleorman County Museum, Alexandria). Cover design: Pompilia Zaharia (Teleorman County Museum, Alexandria) Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions/Proceedings of the International Conference, Alexandria 3-5 November 2010/ Editori: Steve Mills; Pavel Mirea Bucureşti, Editura Renaissance, 2011 ISBN 978-606-8321-01-1 I. -
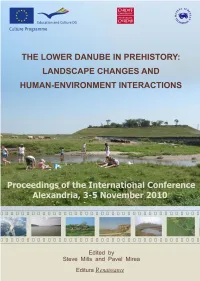
The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions
THE LOWER DANUBE IN PREHISTORY: LANDSCAPE CHANGES AND HUMAN-ENVIRONMENT INTERACTIONS PUBLICAŢIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN (III) THE LOWER DANUBE IN PREHISTORY: LANDSCAPE CHANGES AND HUMAN-ENVIRONMENT INTERACTIONS Proceedings of the International Conference Alexandria, 3 - 5 November 2010 Edited by Steve Mills and Pavel Mirea Contributors: Sorin Ailincăi, Radian-Romus Andreescu, Douglass W. Bailey, Adrian Bălăşescu, Amy Bogaard, Albane Burens, Glicherie Caraivan, Laurent Carozza, Jean-Michel Carozza, Dimitar Chernakov, Alexandra Comşa, Mihai Ştefan Florea, Georges Ganetzovski, Maria Gurova, Costantin Haită, Andy J. Howard, Cătălin Lazăr, Mark G. Macklin, Boryana Mateva, Florian Mihail, Cristian Micu, Katia Moldoveanu, Alexandru Morintz, Amelia Pannett, Valentin Radu, Ruth A. J. Robinson, Cristian Schuster, Cosmin Ioan Suciu, Cristian Eduard Ştefan, Laurens Thissen, Svetlana Venelinova, Valentina Voinea, Angela Walker Editura Renaissance Bucureşti 2011 PUBLICAŢIILE MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN (III) The International Conference The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interaction was part of the Art-Landscape Transformations EC Project 2007-4230, Cardiff University partner scenario Magura - Past and Present founded by the European Union. Organising Committee: Professor Dr. Douglass W. Bailey, Chairman (San Francisco State University), Dr. Steve Mills, Vice-chairman (Cardiff University), Dr. Radian-Romus Andreescu, Vice- chairman (Romanian National History Museum, Bucharest), Dr. Cristian Schuster, Vice-chairman (‘Vasile Pârvan’ Institute of Archaeology, Bucharest), Drd. Pavel Mirea, Secretary (Teleorman County Museum, Alexandria). Cover design: Pompilia Zaharia (Teleorman County Museum, Alexandria) Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions/Proceedings of the International Conference, Alexandria 3-5 November 2010/ Editori: Steve Mills; Pavel Mirea Bucureşti, Editura Renaissance, 2011 ISBN 978-606-8321-01-1 I. -

The Genomic History of Southeastern Europe
The Genomic History of Southeastern Europe Supplementary Information Contents: Supplementary Note 1: Archaeological and osteological context of newly reported individuals (pages 1-49) Supplementary Note 2: Phenotypically informative markers in hunter-gatherer populations (pages 50-54) Supplementary Note 3: Admixture graph modeling of the relationship among Neolithic populations (pages 55-58) Supplementary Note 1: Archaeological and osteological context of newly reported individuals. This supplement provides archaeological details for individuals that have genome-wide ancient DNA data reported for the first time in this study. They are organized first by present- day country of origin, and then by site. We also provide a brief note describing the Danube Gorges region and approximate chronologies for the Balkan Peninsula and Ukraine. Austria ................................................................................................................... 3 Kleinhadersdorf Flur Marchleiten (2 individuals) ............................................................................... 3 Asparn (6 individuals) ...................................................................................................................................... 3 Bulgaria .................................................................................................................. 4 Beli Breyag (2 individuals) ............................................................................................................................. 4 Dzhulyunitsa (8 individuals) -

Cultural Heritage and Museums
MUZEUL DUNÃRII DE JOS, CÃLÃRAÞI MM U U S S E E U U M M S S , , , XXVII MONUMENTSMONUMENTS ÃREA DE JOS ÃREA LA DUN LA AND TOURISM AND TOURISM ÞIE A Z CIVILI ÞI Cãlãraºi, str. Progresului, 4 Ã secretariat: +40 242 313 161 etnografie: +40 242 311 690 fax: +40 242 311 974 e-mail: [email protected] CULTUR w w w . m d j c a l a r a s i . r o CULTURÃ ÞI CIVILIZAÞIE LA DUNÃREA DE JOS * XXVII * CULTURE AND CIVILISATION AT THE LOWER DANUBE www.cimec.ro CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS XXVII MUZEE, MONUMENTE ŞI TURISM LA DUNĂREA DE JOS *** CULTURE AND CIVILISATION AT LOWER DANUBE XXVII MUSEUMS, MONUMENTS AND TOURISM AT LOWER DANUBE www.cimec.ro Editors: Dr. Marian Neagu, Lower Danube Museum, Călăraşi Responsible redactor Valentin Parnic, Lower Danube Museum, Călăraşi Scientific Secretary Dragomira Boeva Member: Aris Tsaravopoulos, Călăraşi County Council Editura DAIM • www.daimph.ro ISBN 978-973-1787-02-2 www.cimec.ro MUZEUL DUNĂRII DE JOS CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS XXVII MUZEE, MONUMENTE ŞI TURISM LA DUNĂREA DE JOS * * * CULTURE AND CIVILISATION AT LOWER DANUBE XXVI MUSEUMS, MONUMENTS AND TOURISM AT LOWER DANUBE CĂLĂRAŞI, 2009 www.cimec.ro www.cimec.ro SUMMARY Virgil Nitulescu Museums of today: A role to play in the tourism industry ......................................... 7 Daniel Ştefan Cross border tourism at Lower Danube - Brief presentation .................................. 15 Aris Tsaravopoulos Can an archaeological site contribute to the sustainable development of a remote island? .................................................................................................. 21 Nikolay Nenov European Heritage Buildings Tourist Itinerary Guidebook ................................... -

TELL YUNATSITE, BULGARIA Course ID: ARCH XL159 June 24 - July 22, 2017 DIRECTORS: Asst
SEEKING EUROPE’S FIRST CIVILIZATION: TELL YUNATSITE, BULGARIA Course ID: ARCH XL159 June 24 - July 22, 2017 DIRECTORS: Asst. Prof. Kamen Boyadzhiev, Archaeologist and Head of the Exhibitions’ Department at the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences; Dig Co-director; Balkan Heritage Foundation affiliate. [email protected] Ass. Prof. Yavor Boyadzhiev, Archaeologist and Associated Professor at the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences; Dig Co-director; Balkan Heritage Foundation affiliate. INTRODUCTION Tell Yunatsite is located near the modern village of Yunatsite in Southern Bulgaria. It is among the biggest tells in Europe with a diameter of approximately 110 m/360 ft and height of 12 m/39 ft above the modern surface. Tell Yunatsite was first excavated in 1939 by the Bulgarian archaeologist Vasil Mikov. In 1976, regular excavations were carried out on an annual basis. Since then, research at Tell Yunatsite has grown into an important research program under the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences. At times, Greek and Soviet archaeologists joined research at the site and today this is an international research effort directed by Bulgarian scholars. The field school will be held for fifth year and is a joint cooperation between Balkan Heritage Foundation (BHF), the Regional Museum of History in Pazardzhik, the Tell Yunatsite Excavation Team from the National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences and the Institute for Field Research. To date, approximately one third of the tell has been excavated. This work yielded rich collections of archaeological materials, and the sterile soil has not yet been reached.