Церковь Свт. Иоанна Шанхайского St John's Russian Orthodox Church
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

St. James the Less and St. Helen
May God bless you all. Fr Tony McKentey ST. JAMES THE LESS AND Please see Mass Schedule for ANY changes ST. HELEN SUNDAYS: Divine Mercy followed by Rosary 3pm CATHOLIC CHURCH, COLCHESTER DAILY: Morning Prayer 8:15am; Rosary/Divine Mercy 8:35am EVENING PRAYER: Fridays at 6pm Church WITH MERSEA, MILE END AND MONKWICK PRAYER GROUP: Mondays at 7:45pm Crypt MEDITATION GROUP: Tuesdays at 8pm Crypt Fr Anthony McKentey PRAYERS FOR THE SICK (new entries are in bold type): Please remember in your prayers; Władysław Anto ńczak, Pat Banks, June Bickersteth, Gr ace Blanchette, Fr Neil Brett Frank Campbell, Karl Collins, Olive Crawford, Jeanette Dagwell, Lynne-Michelle Fr Philip Willenbrock Denton, Joan Donnelly , Nancy Drummond, Fr Paul Dynan, Charlie George , Bill 51 Priory Street , Colchester, Essex, CO1 2QB Graves, Bert Hewitt, Norah Hewitt, Maurice Highfield, David Hill, Theresa Hogan, Tel: 01206 866317 Ronald Jay, Pat Keene, Patrick King, Declan Knight, Mirella Leonardi, Marie Lyons, Pat Maloney, Jean Mansell, Mary-Ann Martin, Cara Maude , , Byron Miller , Margaret E-Mail [email protected] Norman, Anne Renwick, Leah Patterson, Elaine Proudfoot, Ronald Quijano, S abina www.stjamesthelessandsthelen.org Rhatigan, Catherine Spicer, Arthur Urquhart, Filomena Velasquez, Patricia Wiltshire, Tony White, Dorcey Young. TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME [A] BAPTISMS THIS WEEKEND: This weekend we welcome into the church through st 31 August 2014 - Parish Mass Book Page 122 the Sacrament of Baptism: Matilda Kellegher, Chibueze Okechukwu, Oscar Sayles . God bless these children and congratulations to their families. My dear friends WOULD YOU LIKE TO HAVE YOUR CHILD BAPTISED? The next Baptism course Welcome on this last weekend of August. -

An Address by Rt Revd Roger Morris Bishop of Colchester
Colchester Deanery Synod: Address by Rt Revd Roger Morris, Bishop of Colchester 1st December 2020 James Lovell, Fred Haise and Jack Swigert may be names that ring a bell with some of you But you will all have heard Jack Swigert’s chilling communication to Mission Control Houston – we’ve had a problem On board Apollo 13, things were not looking good An explosion in one of the oxygen tanks had ripped off one whole side of the space craft –they were losing oxygen fast and they had no power. They could not fulfil their mission They could barely communicate with the people on earth They had very little with which to sustain life It looked as though they were going to perish. Houston – we’ve had a problem I guess – if I am being really honest that is what we have been saying for about the last 5 years or so Now I say that – not to do us down but to recognise some of the factors at work Basically – it has pretty much always cost more to be the Church of England in Essex and East London than we get in We have always been subsidised. And part of that reflects our history There simply have not been the numbers of churchgoers in Essex to properly sustain a large Christian enterprise I know our Christian heritage goes a long way back we have a church by the Police Station that is 1700 years old and my predecessor as Bishop of Colchester (Bishop Adelphius of Camulodunum) was at the Council of Arles in 314 We have St Cedd and his great missionary endeavour but Essex has remained – on the whole pretty indifferent to the church So we have needed help -

Major Excavations Begin at St Mary's Hospital
With thanks to all the contributors to this issue of the magazine - Pat Brown of Colchester Young Archaeologists' Club Mike Corbishley of English Heritage Education Essex County Council Heritage Conservation James Fawn Andrew Phillips Front cover: Trust excavator Laura Gadsby holding a piece of painted Roman wall-plaster in the Roman cellar where it was excavated. Friends of the Colchester Archaeological Trust If you are interested in following archaeological discoveries in Colchester, then why not consider joining designed by Gillian Adams the Friends of the Colchester Archaeological Trust? unattributed text by Howard Brooks Membership continues to rise and now stands at about with additional material by Carl Crossan 450 individuals and families. The subscription rates are modest, and include an annual copy of the Colchester archaeologist magazine delivered to you as soon as it is published. You can also join tours of current sites and Printed by PrintWright Ltd, Ipswich organised trips to places of historical and archaeological interest in the region. © Colchester Archaeological Trust 2002 The annual subscription rates: Adults and institutions £3.50 ISSN 0952-0988 Family membership £4.50 Children and students £2.50 Further details can be obtained from Maureen Jones, All images copyright Friends of Colchester Archaeological Trust, 5 Ashwin Colchester Archaeological Trust Avenue, Copford, Colchester, Essex C06 1BS or unless stated otherwise www.friends-of-cat.ndo.co.uk The Colchester archaeologist magazine is largely funded by the Friends of Colchester Archaeological Trust - see page 32. The Trust is grateful to Colchester Borough Council for placing an advertisement on page 33 and for its support of the magazine. -

Our Lady of Grace Church in Colchester Village
Our Lady Of Grace Church In Colchester Village Physical Address: 784 Main Street Mailing Address: 800 Main Street • Colchester, VT 05446 Parish Office/Rectory (802) 878-5987 • Hall (802) 879-5411 • Fax (802) 871-5537 PARISH WEBSITE: HOLYCROSS-OLOG.VERMONTCATHOLIC.ORG Father William Beaudin Weekend Mass Schedule Pastor Saturday 4:00 PM 878-5987 or 863-3002 Sunday 10:30 AM Mrs. Veronica Hershberger, MA Lay Ecclesial Minister Weekday Masses 849-2878 As scheduled in the weekly bulletin Director of Religious Education 878-9280 [email protected] Holy Day Masses Parish Office As scheduled in the weekly bulletin. Monday, Thursday and Friday 9:00 AM to noon Sacrament of Reconciliation 878-5987 Any time upon request. [email protected] Baptisms Parent instruction required. Please call the Parish Office/Rectory for an appointment. Marriages Please arrange six months in advance to allow for Pre-Cana instructions. Anointing of The Sick Anyone planning to enter the hospital for sur- gery, who is experiencing a prolonged and serious illness or is weak due to illness or aging, please call the Parish Office to arrange for the celebration of the Anointing of the Sick. Parish Mission Statement That God’s pastoral plan of prayer, working together to build the Kingdom and celebrating life, be a reality at Our Lady of Grace OUR LADY OF GRACE CHURCH COLCHESTER, VERMONT Dear Friends, “Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour.” (Matthew 25:13) Not today, not today, nothing will ever happen today say most of us when thinking about the Lord’s coming. -

Walking Christmas 2013 (Book 1)
WALKING CHRISTMAS 2013 (BOOK 1) 1 INTRODUCTION In mid December 2013, Robin Webb from my church, asked if I could update our church website. This was a challenge to me but I gave it a go tryng to make a football based one look like a church one. One section I set up was to include about churches visited which gave me an idea whilst I was at church on Sunday 22nd December, could I visit a few churches over Christmas and take photos of them. I began my story on that day when I went to both in Shrub End and included the one at Brightlingsea as I saw it twice as I went past it on the bus and it was too far to walk out to see it. I did visit one in the town popping my head in the door. My story then continued on Christmas Day as I went past the Catholic church at the end of my road. My earnest quest for fame continued on Boxing Day. At this time I would like to give my thanks to the various websites that I have taken information and photos from, for personal use, and not for any monetary gains. The books trace my daily journeys and the order that I saw the various religious buildings. SUNDAY 22nd DECEMBER 2013 St Cedd’s Church, Iceni Way, Shrub End, Colchester The dual purpose church was built in 1955 and at a later date it was planned to do a church rebuild, but this never took place. There were very detailed drawings made of a major working around about the time when CCCP was set up, but these were well scaled down. -

St. James the Great, Colchester
The Parish of St James & St Paul Colchester PARISH PROFILE 2017 CONTENTS What the PCC is looking for in a new Incumbent The Parish What we can offer The Area The Church Building Worship at St James the Great Children’s Liturgy Mission Youth Work Fellowship & Social Events The Shrine of Our Lady of Walsingham and St James the Great Links with other Churches & the Deanery Education Looking to the Future Finances The Rectory Appendices 2 What the PCC is looking for in a new Incumbent A man who is dedicated to serving God and the people of this church and parish, who is committed to the traditional Anglo-Catholic liturgy that we value so greatly here at St James. We would welcome an enthusiastic, positive and sensitive person, with a talent for pastoral care, preaching and teaching. We would also be looking to find in a new priest someone who is committed to supporting and guiding the School into the future and ensuring that it can provide a Christian structure and guide to the lives of its pupils. A good communicator who can engage with the young and old alike and with those of many backgrounds would be beneficial. Whilst we appreciate that any new priest may wish to make changes we are looking for someone who will continue with the liturgical tradition that is followed at St James and who is prepared to engage in the wider community. The Parish The Parish of St James and St Paul, some 8-9,000 in population, is an Anglo Catholic traditional parish in the Diocese of Chelmsford, and is located in the historic Roman town of Colchester in the County of Essex. -

Winter Meetings at Colchester and Walthamstow
WINTER MEETINGS AT COLCHESTER AND WALTHAMSTOW. An afternoon and evening meeting took place at Colchester on Saturday, 9 December, 1922. There was a large attendance. Members first inspected the foundations of a Roman villa, and the fine mosaic pavement (illustrated on p. 251) found on Mr. A. W. Frost's land on the east side of North Hill. At St. Mary-at-the-Walls, Mr. W. Gurney Benham spoke of the desirability of placing some monument to Philip Morant in this church, where he was rector from 1738 until his death in 1770. The estimated cost is about 80l. Some interesting parochial records in Morant's handwriting were shown by the rector, Canon G. T. Brunwin-Hales, who also showed a seventeenth century chalice belonging to the church, though a comparatively modern gift to the parish. Proceeding by the Balkerne gateway, which could only be casually viewed, the party proceeded to High Street, and thence made their way by special tram-cars to St. James' church, East Hill, and to St. Leonard's church, on Hythe Hill. Both churches were well described by Mr. Duncan Clark, A.R.I.B.A. At the latter church the interesting sixteenth century mazer bowl was shown. By invitation of Mr. and Mrs. Gurney Benham, tea was provided in the Grand Jury Room of Colchester Town Hall. Subsequently, Canon Rendall, Litt.D., delivered a most carefully prepared paper—fully illustrated by prints, maps and diagrams—on "The Origin of Colchester Parishes." There are fourteen ancient parish churches in Colchester. Most of these, in Dr. -

A Report on Test-Pits Dug at the Church of St James the Great, East Hill
A report on test pits dug at the church of St James the Great, East Hill, Colchester, Essex March 2000 on behalf of Purcell Miller Tritton Colchester Archaeological Trust 12 Lexden Road, Colchester, Essex C03 3NF tel/fax: (01206) 541051 email: [email protected] CAT REPORT 72 A report on test pits dug at the church of St James the Great, East Hill, Colchester, Essex March 2000 on behalf of Purcell Miller Tritton report by Howard Brooks CAT site code: JAM 2000 CAT project code: 00/3g Colchester Museum accession code: 2000.26 Contents List of figures 1 Summary 1 2 Introduction 1 3 Archaeological background 2 4 Aim 2 5 The trial trenches 2 6 The finds 6.1 Finds list 5 7 Discussion and interpretation 6 8 Acknowledgements 7 9 References 7 10 Glossary 7 11 Archive deposition 7 12 Site data 12.1 Context list 8 12.2 Soil descriptions 8 List of figures Fig 1 Church ground plan with trench locations. Fig 2 West face of Trench 1, and common conventions. Fig 3 Plan of Trench 1. Fig 4 West face of Trench 2 and south wall of church. Fig 5 East face of Trench 2. Fig 6 Plan of Trench 2. Fig 7 East face of Trench 2. Fig 8 Plan of Trench 3. Front cover: St James’ church (no 8) in detail from map of Colchester in History and antiquities of Colchester (Morant 1748). T2 T3 T1 groundsofEastHillHouse Fig1Church ice groundplan house withtrench locations. test pits dug at the church of St James the Great, East Hill, Colchester: March 2000: CAT Report 72: Colchester Museum accession 2000.26 A report on test pits dug at the church of St James the Great, East Hill, Colchester, Essex March 2000 1 Summary The drains running along the outside of the south aisle wall of St James’ church had become blocked. -

Celebrate Colchester's Rich Heritage
Celebrate Colchester’s Rich Heritage With Colchester’s FREE heritage open days! Saturday 10th and Sunday 11th September Various locations in and around Colchester Residents and visitors alike will get the exciting opportunity to delve into Colchester’s rich heritage as part of the Heritage Open Days weekend. A wonderful range of buildings and activities are taking place in and around the town- all completely free of charge! The Open Days give you a chance to discover the town’s fascinating history. Buildings that are usually closed to the public throw open their doors and invite you to come and explore their intriguing stories. There is a whole range of things to take in and appreciate around the town; this includes the majestic Colne Lightship, a vintage bus display, the area’s stunning churches and chapels alongside performances and tours that will really bring local history to life. On Saturday 10 September you can come and visit the award winning Colchester Castle Museum free of charge. With over 2000 years worth of captivating history on display and the fascinating ‘Buried!’ exhibition to enjoy, its no surprise that this is an extremely popular event. Laura Hardisty, Marketing Officer for Colchester and Ipswich Museums said: “This is a fantastic opportunity for people to see Colchester and its buildings from a completely different angle, as well as getting a chance to see places that are normally hidden away. There is such a diverse range of things to see and do, there really is something for all the family to enjoy.” Councillor Nick Barlow, Portfolio Holder for Commerce and Sustainability said: “Colchester really is a town with a lot to discover. -
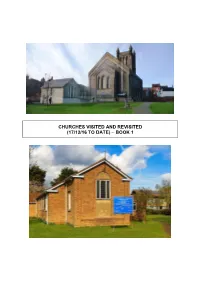
Churches Visited and Revisited (17/12/16 to Date) – Book 1
CHURCHES VISITED AND REVISITED (17/12/16 TO DATE) – BOOK 1 Back in 2013, I spent most of my Christmas holiday from work visiting most of the churches in Colchester, then others in the surrounding areas, then those in Norwich, Woodbridge and in January 2014 in Ipswich too. Now on my full time retirement in late December 2016, to keep myself fit, I was going to retrace my routes again, but six days before I retired I went to Woodbridge and I include this as the start of my journey. Most of the photos and materials used were of my own work, but this has been supplemented by additional material from the internet, which I now want to pay thanks, for all other information used. Many new churches have been added now. Prior to going to the Western Homes Community Stadium in Colchester to see the U’s play and beat Notts County 2-1 in a League match in Division 2, I spent the morning in Woodbridge and then walked the mile to Melton to see the church there. SATURDAY 17th DECEMBER 2016 This is a view across from Elmhurst Park - 2 - In 2016 it was a misty morning, when my new photo was taken. St Mary the Virgin, Market Hill, Woodbridge They are a parish church, dedicated to St. Mary the Virgin, in the Diocese of St. Edmundsbury and Ipswich. Their worship reflects the broad mainstream tradition of the Church of England, and, whilst emphasising the importance of liturgy within the catholic tradition. They aim to be inclusive in their understanding and approach to spirituality, theology and pastoral care. -

Belle Vue Road, Colchester, Essex September-October 2000
A watching brief at the site of the former St Paul’s church, Belle Vue Road, Colchester, Essex September-October 2000 on behalf of Colchester Borough Council CAT site code: 9/00i Colchester Museum accession code: 2001.85 Planning consent application no: F/COL/00/0910 NGR: TL 9915 2608 Colchester Archaeological Trust 12 Lexden Road, Colchester, Essex CO3 3NF tel.: (01206) 541051 tel./fax: (01206) 500124 email: [email protected] CAT Report 137 Contents 1 Summary 1 2 Introduction 1 3 Archaeological background 1 4 Aims and objectives 1 5 Methods 2 6 Results 2 7 Discussion 3 8 Archive deposition 3 9 Acknowledgements 3 10 References 3 Plate 5 Figure after p 5 Essex Heritage Conservation Record (EHCR) summary sheet Plate and figure Plate 1 The two skulls from Soakaway 1, looking south. Fig 1 Site location, scale 1:500. CAT Report 137: A watching brief at the site of the former St Paul’s church, Belle Vue Road, Colchester, Essex: 2000 1 Summary Three human burials and a probable fourth burial were recorded during the construction of a bungalow on the former St Paul’s church site. These burials were within the graveyard but unmarked. They are thought to date from the Victorian period and to be the burials of residents of nearby Essex Hall asylum. 2 Introduction 2.1 This is the report on a watching brief carried out by Colchester Archaeological Trust (CAT) at Belle Vue Road, Colchester, Essex on the 29th of September and the 3rd of October 2000, on behalf of Colchester Borough Council. -

Christ Church in Colchester Deanery
Information for potential candidates - Christ Church in the Deanery of Colchester The Deanery of Colchester is the second largest in the diocese of Chelmsford and although not co- terminus with the Borough, contains nearly 80% of the population. As the ‘church’ and ‘Deanery’, this brings a huge sense of strategic and pastoral responsibility in the way we seek support and make a significant contribution to such a demographically, economically and spiritually diverse community. Colchester is Britain’s oldest recorded town. There is so much history; the striking remains of the first capital of the Roman province; sacked by Boudicca in her chariot at the time St. Paul was sending his Epistles to the new churches. A practically complete second-century town wall; Colchester Castle with possibly the largest Norman keep in Europe built on Roman foundations made by men who were contemporary with Christ. The remains of St. Botolph’s Priory; the Flemish weavers fleeing to Colchester to escape persecution in the 17th. and 18th. centuries still reflected in the title of the Dutch Quarter running down the streets near the Town Hall. There are Georgian buildings; "Jumbo" the red brick water tower built in 1882, which dominates many views of the town. The town has a heritage of national importance. The modern Borough of Colchester has a large and rich hinterland with historic buildings, countryside and coastline. It is a natural centre for the surrounding rural areas of north Essex and south Suffolk, which coupled with its own history, makes it a focus of interest. More than six million people from Britain and overseas visit Colchester every year.