Eurasia: Statum Ет Legеm 7/2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Maritime Security • Maritime
MAKING WAVES A maritime news brief covering: MARITIME SECURITY MARITIME FORCES SHIPPING, PORTS AND OCEAN ECONOMY MARINE ENVIRONMENT GEOPOLITICS Making Waves 18 - 24 Jan 2021 CONTENTS MARITIME SECURITY ................................................................................ 3 WITH P8I AIRCRAFT, NAVY TAKES PART IN QUAD ANTI-SUBMARINE WARFARE EXERCISE IN GUAM ..................................................... 3 SATELLITE CATCHES CHINESE SURVEY SHIP MAPPING SEABED IN EASTERN INDIAN OCEAN ........................................................... 4 CHINA AUTHORISES COAST GUARD TO FIRE ON FOREIGN VESSELS ..... 5 FRONTEX AND EUNAVFOR SIGN MARITIME SECURITY COOPERATION AGREEMENT ....................................................... 6 ASIA PIRACY INCIDENTS HIT 5-YEAR HIGH IN 2020, SHIPPING INSURANCE RATES FIRM ............................................................ 7 DOES SOMALI PIRACY HOLD SECURITY LESSONS FOR THE GULF OF GUINEA? ................................................................................ 8 MARITIME FORCES ................................................................................... 10 MARINE CORPS TO STAND UP FIRST MARINE LITTORAL REGIMENT IN FY 2022 ...............................................................................10 JAPAN DEMOS RAYTHEON MARITIME SECURITY RADAR, SENSOR ABOARD GA-ASI SEAGUARDIAN AIRCRAFT ................................ 11 US AND SAUDI ARABIAN NAVIES BEGIN MARITIME EXERCISE NAVAL DEFENDER 21 ........................................................................ -

Mod Releases Draft Defence Production & Export Promotion Policy
August - September 2020 | Vol VIII | Issue 1 LAND, NAVAL & INTERNAL HOMELAND SECURITY SYSTEMS MAGAZINE MoD Releases Draft Defence Production & Export Promotion Policy 2020 In association with AEROSPACE & DEFENCE DIRECTORY (REVISED 6TH EDITION) The Largest Compendium on Aerospace & Defence Industries with profile and Product details of more than1500+ Industries. Soft Copy Available AEROSPACE th ( PDF and Excel Format) 6 Edition DEFENCE Revised DIRECTORY A Compendium of Indian Aerospace & Defence Industries For More Details Contact Email : [email protected] [email protected] Tel : +91 9448447509 9480551925 Aerosun Media Pvt Ltd # B 2, Sapphire, Prakruthi Township, 1st Block, 3rd Cross, Babusapalaya, Kalyan Nagar, Bengaluru, Karnataka 560043 www.aeromag.in Editorial Defence & Aerospace Firms Shift Gears to Join War Against Pandemic he COVID-19 crisis has severely affected the defence and aerospace industries the world over and India is no exception. Apart from major financial setbacks, Tthe sector has witnessed significant job losses. However, in order to survive, Regional Representatives many of these companies have been searching for innovative solutions and utilizing cutting-edge technologies. Berlin, Germany One important task taken up by these industries as part of diversification is the Detlef Becker manufacture of materials essential for the health sector to tackle the pandemic. E : [email protected] These vital items include ventilators, personal protective equipment (PPE), sanitizers, T : + 497 112317595 masks and face shields. M : + 491 701626053 Among the first Indian defence public sector undertakings to engage in this effort was BEL. But after the Government of India issued a call to private defence firms and Paris, France MSMEs engaged in defence production to consider manufacture of medical supplies, Marie-Thérèse Bonfigli several of these companies have shouldered the crucial responsibility. -
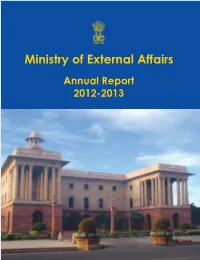
Annual Report 2012-2013
Annual Report 2012-2013 Ministry of External Affairs New Delhi Published by: Policy Planning and Research Division, Ministry of External Affairs, New Delhi This Annual Report can also be accessed at website: www.mea.gov.in The front cover depicts South Block, seat of Ministry of External Affairs since 1947. The inside of front cover shows Jawaharlal Nehru Bhawan, Ministry of External Affairs’ new building since June 2011. The inside of back cover shows displays at Jawaharlal Nehru Bhawan Designed and printed by: Graphic Point Pvt. Ltd. 4th Floor, Harwans Bhawan II Nangal Rai, Commercial Complex New Delhi 110 046 Ph. 011-28523517 E-Mail. [email protected] Content Introduction and Synopsis i-xvii 1. India's Neighbours 1 2. South-East Asia and the Pacific 16 3. East Asia 28 4. Eurasia 33 5. The Gulf and West Asia 41 6. Africa 48 7. Europe and European Union 63 8. The Americas 80 9. United Nations and International Organizations 94 10. Disarmament and International Security Affairs 108 11. Multilateral Economic Relations 112 12. South Asian Association for Regional Cooperation 119 13. Development Cooperation 121 14. Investment and Technology Promotion 127 15. Energy Security 128 16. Counter Terrorism and Policy Planning 130 17. Protocol 132 18. Consular, Passport and Visa Services 139 19. Administration and Establishment 146 20. Right to Information and Chief Public Information Office 149 21. e-Governance and Information Technology 150 22. Coordination Division 151 23. External Publicity 152 24. Public Diplomacy 155 25. Foreign Service Institute 159 26. Implementation of Official Language Policy and Propagation of Hindi Abroad 161 27. -

Types of Warships.Docx
Type of Warship A warship is a naval ship built primarily for naval warfare. They usually belong to the Navy of a country. They are different from merchant ships as warships typically carry only weapons, ammunition and supplies for their crews, while the former is not armed and carries supplies necessary for trade and commerce. This article will give a brief history of warships before elaborating upon the types of warships available in the 21st century. The information from this article will be useful in the upcoming IAS Exam (GS 3). Brief History of Warships The ancestors of today's warships can be the galleys and triremes of Ancient Greece and the Roman Empire. Being narrow and long, they were manned by oarsmen (always consisting of slaves and prisoners of war) who engaged in ramming, which would enable boarding action. Development of on-ship artillery lent a new dimension to ancient naval warfare, where coastal cities/towns could be besieged with them. Gradually, ramming fell out of fashion and boarding was still in use until the late 14th century. The development of cannons made ships much heavier to be moved by oars alone, hence warships began to rely on sails. Sails in fact made them more manoeuvrable and, with the canons onboard, could shoot down boarding parties at distance. By the middle of the 17th century, warships were carrying increasing numbers of cannon on their broadsides and tactics evolved to bring each ship's firepower to bear in a line of battle The development of these ships soon enabled European colonialism and eventual domination of the major oceans by them. -

India's Drive for a 'Blue Water' Navy
Journal of Military and Strategic Studies, Winter 2007-08, Vol. 10, Issue 2. INDIA’S DRIVE FOR A ‘BLUE WATER’ NAVY Dr. David Scott, International Relations, Brunel University Introduction Since the late 1990s India’s attempt to strengthen its maritime status has gathered decisive pace. This all involves India’s drive, seen in its 2006 Navy Day of “transforming itself from a ‘brown water’ coastal defense force to a formidable ‘blue water’ fleet.”1 It reflects the Indian Navy’s own 2003 slogan, and play on words, of Tacking to the Blue Waters.2 Technically, a ‘blue water’ navy is taken as one able to operate over 200 miles (320 kilometres) from shore, in other words long range, deep water, oceanic maritime projection bringing with it seapower. Politically, a ‘blue water’ navy is long range extension of the state’s presence. As Admiral Jayant Nadkarni, Chief of Naval Staff 1987-90, once put it “legitimate use…of a Blue Water navy is power projection which is necessary” for a “power like India.”3 In doing so, India’s own ‘blue water’ drive is coming up against the similar ‘blue water’ drive by another rising power, the People’s Republic of China. China’s “turn to Mahan” is similar to India’s, as is Japan’s.4 This brings the Chinese Navy out into the Indian Ocean, with China’s ‘string of pearls’ strategy across the Indian Ocean causing concern for Indian strategists and leading to further deployments by the Indian Navy. Indeed, 1 “From Brown Water to Blue,” India Express, 5 December 2006.